Поэтка, переводчица, издательница. Основательница издательства «Каяла». Правнучка писателя Евгения Чирикова. Татьяна Ретивова о «своем» Киеве, семье, Иосифе Бродском и Саше Соколове.
Киев в вашей жизни — какой? Первые впечатления и все возвращения в него.
— Первый раз я попала в Советский Союз в начале 1978 года. Я поехала в Ленинград, на стажировку в ЛГУ. Мы с группой студентов (где-то 25 человек) семестр провели в Ленинграде. У нас было несколько познавательных поездок: одна — в Украину, другая — в Тбилиси, третья – в Латвию и Эстонию. На весенние праздники нас отправили в Киев. Это была очень короткая, но тем не менее, душевная поездка. Нам провели спецэкскурсию по Лавре, по пещерам, когда они были еще не совсем доступны. Это очень впечатлило.
В центре мы случайно встретили офицера на веселе, который уговорил нас поехать и посмотреть Кирилловскую церковь, что мы и сделали. Мы ехали туда с Подола на трамвае. Это очень впечатлило, долгая поездка, много людей, кто-то ехал на птичий рынок с птицей в огромной клетке. Ну и конечно Кирилловскую церковь я навсегда запомнила.
С тех пор я несколько раз бывала в Киеве. Во время перестройки я активно работала переводчицей в Вашингтоне. Потом у меня появилась возможность поработать на месте, в Киеве, после распада СССР, в 1994 году. Тогда начиналась международная программа разоружения — в России, Украине, и Белоруссии. У меня был выбор, работать по этому проекту в России или в Украине, я выбрала Украину. И работала здесь с 1994 по 2006 по этой программе для одного из американских подрядчиков по разоружению.
Еще не было никакого издательского бизнеса?
— Нет — тогда вообще было очень трудно попасть в творческие круги. В 1997 году я познакомилась с Мариной Долей, местной поэтессой, мне с ней посоветовала встретиться Валентина Полухина, с которой я познакомилась через Бродского. В начале восьмидесятых, я ходила на семинары Бродского в Мичиганском университете. Тогда ко мне приехала из Англии и жила у меня несколько недель Валентина Полухина, самый крупный «бродсковед».
Затем, в 90-е мы восстановили связь. Она как раз в конце 90-х собирала стихи разных русскояычных поэтесс, с тем чтобы выпустить, совместно с мужем, переводчиком Д. Вайсбортом, антологию «Современные русские поэтессы», это был специальный номер, посвященный русским поэтессам в журнале Modern Poetry in Translation — журнал, основанный в Англии Даниелем Вайсбортом и Тэдом Хюьзом (мужем Сильвии Плат).В этом журнале я тоже приняла участие, как и автор так и как переводчик. Валентина несколько раз бывала у меня в гостях в Киеве, где она общалась с разными литераторами. С помощью Валентины я познакомилась и с Еленой Фанайловой. В общем, это дало толчок.
Мой основной контакт в Киеве был именно — Марина Доля. Через нее я познакомилась с теми художниками, которых она знала, и начала собирать работы художника Юрия Никитина. Он сейчас пишет иконы и фрески при церквях. А раньше он работал театральным художником. Через него я познакомилась с культурологом Костей Дорошенко, Костя — двоюродный брат жены Юрия Никитина. Это были мои главные интеллектуальные контакты. Пока я работала, было очень трудно вырваться из делового мира и окунуться в мир культуры.
А вам не показалось, что Киев — герметичный город?
— Да, очень герметичный. Очень трудно было знакомиться с людьми. Я и до сих пор ощущаю некую герметичность – все немного варятся в собственном соку. Есть разные группировки людей, которые иногда пересекаются, иногда — нет. В общем, очень трудно войти в чей-то круг.
Почему так, как думаете?
— Я думаю, есть тут ощущение замкнутого пространства. Возможно, оно так исторически сложилось. Хотя на первый взгляд это может показаться провинциальностью, но это не совсем так. Не в обычном смысле этого слова.
Что-то изменилось с середины 90-х до сегодняшнего времени?
— Да, с помощью интернета, компьютеризации молодежь быстрее идет вперед. И старшее поколение как-то меняется. Тогда еще, в 90-е, машины ездили с тусклыми фарами, не было супермаркетов, я помню, как я сломала 5 штопоров подряд, и нигде не могла найти штопора. Покупки делали на сенном или на житном рынке. Были большие толпы, надо было осторожно ходить, так как могли запросто вырезать кошелек из сумки. В гостинице «Крещатик» была маленькая лавка с импортными товарами, там же был и обменный пункт и можно было спокойно менять деньги или снимать их с карты. Помню, как ко мне в декабре 1994 г. приехала в гости моя подруга из Москвы, которая там работала по той же программе. Было много снегу, мы ходили по центру, возле Оперного театра, и нигде не могли найти ни одного ресторана, который бы нас впустил. Это было совершенно дико и нелепо. Конечно, с тех пор много чего изменилось. Теперь, когда я бываю в США, мне кажется, что многие американские супермаркеты уступают киевским, например выбор разных чаев, — здесь может быть целый ряд чаев в супермаркете, а там такой выбор на прилавках редко бывает.
Гуманитарная область стала вам более доступна — ваш круг друзей стал более значителен. Каждый год вы совершали, наверное, какие-то открытия?
— Да. Я хотела бы вспомнить то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Кажется, вы сказали, что «гуманитарные науки опережают другие». Я — другого мнения. Корпорации впереди не науки как таковой, а именно гуманитарных наук. Я помню начало нулевых. Мы получали от американского правительства технику, которая использовалась для разоружения американскими и местными подрядчиками. Мы как подрядчики обеспечивали материально-техническое обеспечение. То есть мы должны были заниматься логистикой. Нам надо было разработать систему отслеживания каждого винтика (а всего было больше миллиона наименований) и отчитываться каждую неделю перед американским правительством. Нам повезло, что нам попался один американский украинский специалист, который умел работать с такого рода приложениями. Он не был программистом, а практиком, т.е. он не изобретал приложения а пользовался ими. У него весь стол был покрыт папками.
Когда я ушла с работы, переключилась на литературу и начала восстанавливать прошлые связи, общалась с литераторами. Я все мечтала создать какую-то базу данных для отслеживания разных приемов в поэзии. Поскольку литературоведы все еще вручную это делали. Поэтому в каком-то смысле технари более продвинутые, чем гуманитарии, ну и корпорации тоже, увы. Работа в корпорации дает очень хороший опыт систематизации и анализа информации.
Почему все-таки Киев, а не Москва и не Питер?
— Питер для меня — самый родной город, потому что мамина семья — оттуда. Моя бабушка по отцовской линии родилась в Питере. Я училась в Питере, и для меня самыми близкими поэтами были и остаются именно питерские поэты 1960-1970-х годов. Но мне как-то удобнее наблюдать за Питером со стороны. Вообще, Украина для меня — это помимо всего прочего и место наблюдения за тем, что происходит в России. То есть, тут — наиболее удобная позиция для наблюдения, ну и не только за Россией, за всем тем, что находится на берегах Черного моря.
А вам еще была видна и понятна в 1994-м эта травма отдаления?
— Наверное, да.
До 2000-х в Украине казалось, что вся интересная жизнь происходит там, а здесь просто — город-сад?
— Было такое. Но у меня это было основано на каком-то предчувствии, потому что тогда еще был оптимизм. По мере того, как там путинизм возникал и становился на ноги, это было неосознанное предчувствие. До 2005 года я была оптимистически настроена. Потом этот оптимизм постепенно вытеснялся пессимизмом. Но даже тогда, в 90-е годы, ощущалась некий другой путь Украины. Меня, например, не удивляло, когда мне рассказывали о том, что в Украине было развито барокко при Мазепе, что это сильно повлияло на украинскую живопись, не говоря уже о вкладе Украины в футуризм, о чем я только будучи здесь узнала. До сих пор наблюдается, как некоторые книги быстрее переводятся в Украине, чем в России, это и происходило с богословскими текстами, при киевском митрополите Лавры. Т.е. чем-то можно сравнить с сопоставлением Ирландии с Англией, у Ирландии тоже свой отдельный путь от Великобритании.
Майдан показал, что вы были правы?
— Все шло к этому. Я помню еще один момент. Это невероятно. Мой отец собирался получить российский паспорт в начале нулевых. Тогда еще разрабатывалась российская программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. На родителей очень активно повлияли «Перестройка», оптимизм, «все меняется» и сам распад СССР, и они все время ездили то в Россию, к родственникам, то ко мне, в Украину. Я считаю, что гражданство российское они не получили из-за того, что я тут, и слава Богу.
Как ваша семья относилась к Украине?
— Мы изначально были скорее всего из имперско-настроенной семьи, как и многие из старой эмиграции. Но это была наверно ответной реакцией на советское отношение к российской истории, к гнилому дворянству, к кулачеству. О Голодоморе в Украине, например, мало что знали, и это несмотря на то, что в 1985 г. при Американском конгрессе была создана специальная комиссия по изучению голода в Украине. Мы тогда ничего о масштабе Голодомора не знали.
После Перестройки разные народы осознали свою индивидуальность, в том числе и русский народ. Хотя мой отец не любил русских националистов, они его любили. Скажем, редакторы таких журналов, как «Наш Современник», они всячески пытались привлечь представителей старой эмиграции. И это до сих пор продолжается, к сожалению. Взять русскую православную церковь заграницей в Вашингтоне, ее настоятель, отец Виктор, многие годы вел религиозную программу в «Голосе Америки». В те времена, до распада СССР, в эмиграции все примерно были одинаково настроены — по поводу всего что касается религиозной свободы, прав человека, диссидентства и так далее.
А после того, как Путин совершил свой самый значительный проект — воссоединение русской зарубежной церкви с МПЦ, все поменялось. Сейчас они устраивают совместные мероприятия с российским посольством. У меня произошел внутренний раскол с тем семейным кругом, с которым я общалась в детстве. Поскольку в русско-эмигрантском обществе все друг друга знали и тесно общались, но за последние лет двадцать их мировоззрение не изменилось с времен перестройки, их одурманил Путин. А сейчас я чужая среди них, потому что я в курсе того, что происходит в России, а они постоянно находятся в стадии отрицания. Ну так, в основном, а те кто соображает, что происходит, почему-то молчат.

Но вы были «белой вороной» и после, со своей Украиной?
— Да, но после Майдана это сильно обострилось.
Ваша семья — известные эмигранты.
— Мой отец был для «Голоса Америки» одним из самых главных специалистов по диссидентству 1970-1980-х гг. Он составил очень важный архив (который потом пропал, как и все остальное на «Голосе Америки»).
И о Петре Григоренко, и о Семене Глузмане?
— Да. И о Владимире Буковском, Александре Огородникове, Александре Гинзбурге, Льве Тимофееве, Чалидзе, об Андрее Амальрике, ну и не говоря уж и о Солженицыне.
Как родители эмигрировали?
— Отец родился в Праге в первой эмиграции. Его мама родилась в Самаре, а его дед, Евгений Чириков, был писателем. Оба его деда, и Чириков и Ретивов бежали из Крыма в Константинополь, с «белыми». Дед Чириков сам не воевал, но его старший сын воевал. Мой дед, Георгий Ретивов, участвовал в Бредовском походе, а прадед, Митрофан Ретивов, служил врачом при добровольческой армии. То есть мой отец практически не знал Советского Союза. Он учился в русской реальной гимназии в Праге, которая существовала за счет чешского правительства в рамках программы помощи беженцам, «Русская акция», созданной президентом Масариком. В гимназии преподавали разные историки, лингвисты, литераторы, уехавшие из России. Ее директором был один из основателей евразийской теории, географ и экономист профессор Петр Савицкий, который переписывался со Львом Гумилевым.
Отец вместе с родителями, братом, сестрой и ее семьей отступали от Советской Армии при взятии Праги. Ехали поездом в Германию, в американскую зону. Часть родственников отца, по Чириковской линии, были репатриированы в СССР. Их вывезли в Узбекистан и в Нижний Новгород.
Мама моя родилась в Ленинграде. Во время блокады она была в Питере, Ленинграде. Их вывозили через Ладожское озеро. Потом ее эвакуировали вместе с родителями в Кисловодск. А брат ее, который воевал тогда в советской армии, остался. Потом они бежали от советской армии из Кисловодска через Киев, Львов. Отступали — и оказались в американской зоне.
Мой дед был из обрусевших немцев. Его отец был немцем, мать — итальянкой. А знание русского, немецкого, французского и итальянского языков неоднократно спасало его и его семью. Он работал переводчиком в американской зоне, там активное участие в судьбах перемещенных лиц принимали американские квакеры. Я читала недавно, что они в 1945 году получили Нобелевскую премию мира за эту работу, которую они проводили с перемещенными лицами из лагерей.
Где вы родились?
— Я родилась в Нью-Йорке.
Кто вы по образованию?
— Я училась в аспирантуре, на факультете славянской литературы и лингвистики. У меня магистерская степень.
А как вы попали в программу разоружения?
— Как переводчик. С началом «перестройки» очень активизировалась необходимость знать русский и общаться. Поэтому так получилось, что многие, зная русский, начали заниматься там письменным и устным переводом. Так как я жила в Вашингтоне, я часто работала переводчицей, было много командировок из СССР. Затем я прошла экзамены в госдепе и работала, как подрядчик. А в госдепе было 4 своих штатных переводчика, подрядчиков нанимали со всей страны и отправляли по мере необходимости. Так я оказалась рядом с Рейганом (фотография есть в Фейсбуке).
Как вы попали к Бродскому?
— Перед тем, как получить бакалавра, я провела время в Ленинграде в ЛГУ. Тогда я общалась с питерскими поэтами. После чего хотелось как-то к Бродскому попасть на семинар. Когда я вернулась, я решила продолжать учиться, и поступила в аспирантуру в Мичиганский университет. Это было интересное время, потому что там находился Лев Лосев и другие недавние эмигранты. У нас с Лосевым и его женой был общий кабинет. Так как меня взяли преподавателем русского языка для начинающих, ну и жена Лосева, Нина, тоже преподавала. В Анн Арборе тогда были и Бродский, Алексей Цветков, и Игорь Ефимов и его жена, Марина. Ефимов работал в издательстве Ардис. Основатель Ардиса, Карл Профер, тогда еще был жив, и я слушала его курсы о Набокове. С Цветковым мы были не на одном курсе, потому что я защищала магистерскую степень, а он — докторскую. Была знакома с его женой Ольгой. Как раз в то время в Штаты впервые приехал Аксенов с женой Майей, затем приезжал Войнович.
Но Бродский уже тогда не постоянно преподавал в Мичиганском университете, мне кажется. Я была на разных его семинарах. Он там вел семинары по англоязычной поэзии и по русскоязычной поэзии. Оригинальный преподаватель. Чем дольше он преподавал, тем больше он становился нетерпеливым к своим студентам. Помню, среди студентов были структуралисты, а на наш факультет очень сильно повлиял Роман Якобсон —основатель пражского кружка. Структурализм был основным направлением нашего факультета. Бродскому это не нравилось, и бывали какие-то стычки. Одна лингвистка была женой Виталия Шеворошкина, известного советского лингвиста, раскрывшего древние языки. Он был чистым лингвистом, а жена больше занималась структурализмом. Вот и с ней были споры. Но не было с Бродским каких-то резких столкновений — обычный русскоязычный монолог и диалог.
Когда вы стали писать стихи?
— Давно. В начале я поступила в французскую школу, что в Нью-Йорке. Это случилось благодаря моему деду, маминому отцу. Я вообще не знала английского с детства. Я всегда говорила: «Я выучила английский во французской школе». По-моему, моя учительница была испанкой или мексиканкой. В Нью-Йорке у нас был очень замкнутый круг общения. Помню двор-колодец, и окна, выходящие на этот двор. Я никого не знала, кроме людей из тесного круга — двоюродных братьев, дядей, тетей, бабушку, дедушку, и прабабушку Чирикову, ну и близких друзей родителей. Одно время нашими соседями были поэт Иван Елагин с семьей и художник Сергей Голлербах. Когда мы переехали в Вашингтон, мы начали жить в town house. Там было много детей, в основном черные и мексиканцы. С ними мы как-то научились разговаривать на английском. Но во французской школе я училась до 13 лет. А после 13 лет я начала учиться в американской. Даже в иностранных семьях ребенок растет, но его родным языком остается язык общения с родителями, хотя более крутым — все равно английский. Это свой тайный язык, на котором ты говоришь с другими детьми. Многие потом вообще забывают родной язык, и переходят на английский.
А вы на каком языке писали?
— Я начала с французского и русского — детские стихи. А когда я поступила в обычную американскую школу, то перешла на английский. В детстве всегда быстро переходишь на другой язык. Я считаю, что я начала писать верлибры, когда мне было 15 лет. До этого были рифмованные, детские стихи. В 15 лет я очень много читала серьезной литературы (в том числе и Сильвию Плат и других современных американских поэтов). Тогда я начала более серьезно писать.
С одной стороны, вы — человек, который любит, пишет и читает стихи. С другой — у вас есть инструмент для понимания поэзии. Вам мешало то, что вы можете совершенно профессионально эти стихи разбирать или нет?
— Нет, потому что я никогда серьезно не увлекалась этим. Я была плохим литературоведом. Для меня более важным был эмоциональный подход или подход Бродского, творческий подход — иначе у меня не получается. Помню, мы когда изучали древнюю русскую литературу, читали «Слово о полку Игореве» в оригинале и разбирали ее. Я написала работу по происхождению реки Каялы. С тех пор у меня это и возникло, эта одержимость рекой Каялой. Я даже и тогда думала: «Если будет когда-нибудь у меня фирма или организация…» То есть для меня это название было свойственно с первого года. Поэтому, когда мы тут с Борисом Марковским и Еленой Мордовиной решили создать издательство, то Марковский сказал: «Только я не знаю, как его назвать». А я ответила: «А я знаю, у меня давно есть название».
Готовая декларация, договор о намерениях — название такое. Кого и что вы оставили в Америке? О чем вы жалеете? Чего вам не хватает здесь, в Киеве?
— Я летом выставила фотографию в Фейсбуке. Мне не хватает морозилок для льда, которые обычно есть на заправочных станциях и рядом со всеми супермаркетами. Я скучаю по льду (смеется). Это, конечно, шутка. Я скучаю, наверное, по библиотекам (особенно университетским), потому что мне была их система знакома, ну и по обычным городским. А здесь я не понимаю, как они организованы. Но я больше скучаю по прошлому Америки, чем по настоящему Америки. То есть у меня место и время — как-то связано.
Как вы познакомились с Сашей Соколовым?
— Моя мама, будучи директором программ по культуре для русского отдела Голоса Америки проводила с ним несколько интервью. Он как раз закончил писать 3-ю книгу «Палисандрия». Я жила в Сан-Франциско до этого, после аспирантуры, потому что трудно было найти нормальную работу для славистов. То есть тогда всего несколько мест открывалось в году для преподавания. Поэтому я не продолжила учиться в аспирантуре, а решила как-то иначе развиваться (работала редактором). Потом уехала из Сан-Франциско в Вашингтон в 1985 году. Мне предложили преподавать в Норвиче — одной из летних русскоязычных школ для университетских студентов. Их две такие школы, при двух колледжах в Вермонте: в Норвиче и в Миддлбери. Во время «перестройки» туда часто приглашали разных писателей, Окуджаву, Искандера, Виктора Некрасова, А до «перестройки», в 1985 году, часто ездили в гости такие эмигранты, как Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков, Вайль и Генис.
И Саша Соколов туда приехал, пообщаться. Мы познакомились. Он как раз недавно закончил свою книгу. Как он сам говорил: «Когда заканчиваешь книгу, то начинаешь сходить с ума, и у тебя все меняется». Он разошелся со своей девушкой. Но все еще жил в Вермонте. Тогда мы подружились, и я к нему на время переехала туда, где он жил. Потом мы переехали ко мне в Мэриленд, на родительскую дачу. Я и следующим летом работала в Норвиче. Тогда мы жили в палатке (срубе) летом в Вермонте. Петр Вайль и Саша Генис привозили шашлыки из Нью-Йорка, выступали иногда. Бахыт Кенжеев и Алексей Цветков тоже часто гостили.
Он вам казался талантливым писателем?
— Да. Я была влюблена в него как в писателя с 1976 года, когда я несколько раз прочла «Школу для дураков». Это было как откровение. Я считаю, что он очень талантливый, просто у него очень сложная судьба. Это интересное явление. Откуда он взялся и как он стал таким? Для этого нужна была невероятная сила воли.
Ваши киевские приобретения — знакомства с людьми — были постепенными, вы же город очень медленно апроприировали. Какими друзьями вы здесь обросли и какими знакомствами вы гордитесь?
— В первую очередь Мариной Долей, Юрием Никитиным, Костей Дорошенко (с которым и продолжаю общаться). Когда я в 2012 году открыла Арт-лит салон «Бриколаж», то первыми посетителями были писатель Алексей Никитин, его жена, поэтка Женя Чуприна и другие. Алексей Никитин — интересный человек: с ним очень легко общаться, он очень восприимчивый, и не было какого-то ощущения вылезания из какого-то замкнутого пространства, он очень чуткий человек и быстро разбирается в людях. То есть он понял сразу, кто мы с мамой, и мне не так много приходилось объяснять. Поэтому я ценю это общение и весь круг, который собирается в Доме Булгаковых (в четверг будет). Я как-то отключилась, и начала думать о Саше Соколове. Интересно, что среди всех моих знакомых художников, галерейщиков, писателей очень многие его ценят в Украине больше, чем мои сверстники в России. Хотя в России просто разбросана интеллигенция, а в Киеве она сосредоточена. Но возвращаясь к интересным людям в Киеве, с которыми познакомилась, к сожалению некоторые из них уже ушедшие, как Александр Ройтбурд, Юрий Зморович, Раф Левченко. Очень ценю общение с Алексеем Александровым и его группой, Er.J. Orchestra, и с режиссёром Александром Дирдовским, который участвует в разных проектах с Александровым. Ну а из художников — Ирина Вышеславская и ее сын, Глеб Вышеславский, это один круг общения. Другой — это Матвей Вайсберг, Лена Придувалова, Алексей Аполлонов, Ахра Аджинджал, Леонид Холодницкий, ну всех не перечислишь.
Что было сначала — издательство или арт-салон?
Это такое место встречи, которое вам необходимо?
— Ну да, но оно, по-моему, уже изжило себя, потому что сейчас есть очень много мест, где устраиваются презентации. Тогда, в 2012 году, было такое время, когда не было активного общения писателей, художников, как произошло с 2013 года и особенно после Майдана. После Майдана произошла некая соборность, творческие люди стремились друг к другу. Среди моих знакомых очень мало тех, кто был против Майдана — такое ощущение, что они мало были осведомлены, а те, кто был в курсе, — стояли на Майдане или во всяком случае его поддерживали. После этого был всплеск культуры. Как-то все те же люди приходили на открытие выставок, на всякие презентации. Раньше можно было собрать людей на выступление или очередную презентацию, а сейчас — очень трудно. Ковид вмешался.
Татьяна, вы никогда не жалели о том, что в вашей жизни появился Киев?
— Нет, никогда.
А вы не хотели свернуть свою жизнь, свои проекты здесь и уехать обратно в Штаты?
— Нет, там я никому не нужна.
Никто никому не нужен.
— Здесь у меня есть чувство ответственности за разоружение. Поэтому я исполняю какой-то свой долг перед страной, это моя карма такая. Ну и потом оказалось, что возможно мои предки, Ретивовы, из Станицы Луганской, через которую протекает Северский Донец, река, которая нынче делит оккупированную зону от неоккупированной. А некоторые исследователи и историки считают, что река Каяла впадала в Северский Донец. И как писал ученый Л.А. Дмитриев о реке Каяле: «Каяла, как река гибели, печали, как символ гибельного смертного места, могла представляться рекой, в которой течет мертвая вода, и поэтому-то хотя Ярославна и собирается лететь по Дунаю-реке, но рукав она омочит в Каяле и утрет им кровавые раны князя — именно мертвой водой залечиваются, затягиваются раны».
Поэтому, вот видите, река Каяла, в которой течет и мертвая и живая вода – воплощается в моем издательстве. У нас с самого начала издавались писатели из Донецка: Станислав Асеев, Наталия Хаткина, Элина Свенцицкая, Ия Кива, Светлана Заготова. А сейчас готовим к изданию книгу прозы математика Ольги Кряжич из Северодонецка, пишет на украинском.
Чувство ответственности за разоружение — а страна лишилась ядерного оружия и стала беззащитной?
— Да. Хотя я умом понимаю, что это не все так просто. Куда бы пошло это оружие? Как бы им распорядились? Все равно было бы плохо. Сейчас просто легко обвинить эту программу. Но Россия тоже принимала участие в этой программе — ее тоже разоружали. Между прочим, Россия получала в 5 раз больше американской помощи, чем Украина, за счет того, что страна больше. Это надо вспоминать периодически. Потому что, когда обвиняли во время Майдана: «Украина получила 5 млрд от госдепа», — это же за все там 20 лет после распада СССР. Россия же тоже разоружалась по этой программе.
Иногда я думаю поехать в Черногорию или куда-нибудь туда, где тепло. А пока меня все устраивает тут. Как-то так получилось, что я здесь работала, потом постепенно укоренилась, и ориентируюсь лучше, чем где бы там ни было.


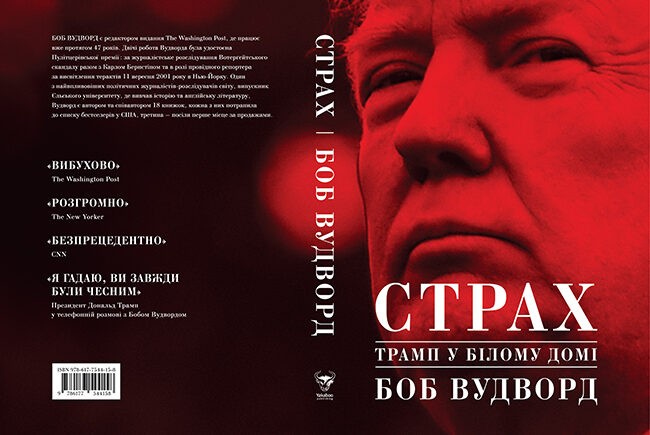


2 коментарі
Шановна пані Тетяно! З теплом згадую зустрічі з Вами.
Як добре, що Ви є у Києві, що Вам Київ до душі.
Перечитала Ваше спілкування- аналогія Ірландія-Україна…
Каяла…
Бажаю Вам тепла, зустрічей з близькими та цікавими людьми,
і обов’язково- здоро’я-здоро’я-здоров’я!
ps… згадалось у 2016 переклала дещо з А,Тарковського –
АРСЕНІЙ ТАРКОВСЬКИЙ
ТОБІ НЕ НАБРИДЛО ЩЕ КОЖНОМУ СНИТЬСЯ
Тобі не набридло ще кожному сниться,
Хто з князем твоїм бідував на війні,
Про що ж ти все плачеш, княгине-зигзице,
Співаєш про що на кремлівській стіні?
Твій Ігор не вмер у полоні печалі,
Коня він забив, наче зайве й журне.
Коли ми рубались на темній Каялі –
Твій князь на Каялі залишив мене.
Якраз би мені тятивою вдавитись,
У баби з каміння – води попросить.
Про це ти в Путивлі куєш, мов зигзиця,
Що нікому рани мої остудить.
Так довго я спав, – за моїми очима
З залізом розпеченим йшла татарва.
А смерть від кування коротша, незрима;
Від крові моєї зчорніла трава.
Спасибі тобі, що стогнала, співала.
Я вітром іду по гарячій золі,
А ти рознеси моє тіло помалу
На сизім крилі та по рідній землі.
__________________________________________________
Спасибо! Очень приятно!