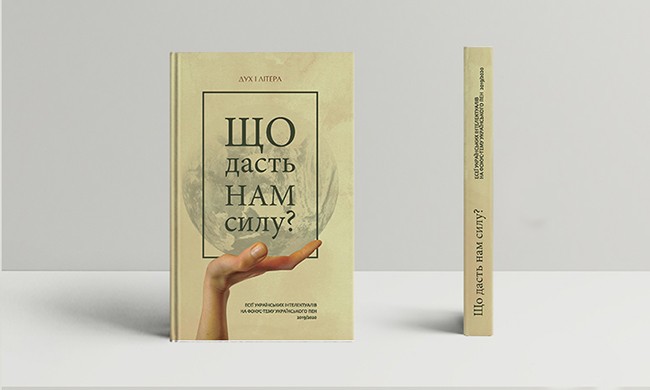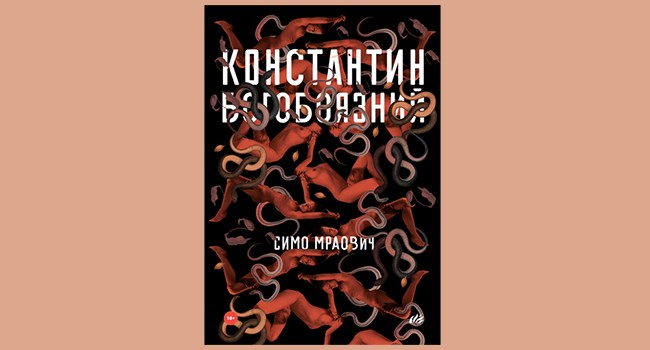В один из дней фестиваля Meridian Czernowitz прошла презентация сборника «Мы не говорим на идиш» Бориса Брикера и Анатолия Вишевского. Kyiv Daily поговорил с одним из авторов, писателем и филологом Анатолием Вишевским. И начал разговор с другой книги, которая была опубликована в 2018 году издательством Meridian Czernowitz и сразу же стала известна в квир-кругах.
Я хотела бы начать разговор с романа с труднопроизносимым названием «Хрупкие фантазии обербоссиерера Лойса».
— Мне тоже иногда трудно его произнести.
Вы — коллекционер, специалист по Мейсенскому фарфору. Почему фарфор? Какой фарфор? С чего все началось?
— Почему фарфор? Я всю жизнь собираю что-нибудь. Когда был ребенком, собирал этикетки, марки, монеты. Когда мне было 25 лет, я уехал из Союза, и вновь стал собирать монеты. Так получилось, что я собирал византийские монеты. После монет увлекся русским серебром и Фаберже. Когда говорят: «Фаберже!» — представляют яйца за $1 млн. Фаберже делал много разных вещей, меня интересовало именно разное. Думаю, я не купил бы яйцо Фаберже, даже если бы у меня были на это деньги, потому что оно очень плохого вкуса. Видимо, таким был вкус императорского двора. Вообще, у Фаберже есть замечательные вещи, очень тонкие, выдержанные, но яйца, которые делались для царской семьи, были страшными. Я, естественно, собирал недорогие вещи — то есть, они все равно стоили денег, но были мне доступны. У меня было очень интересное русское серебро. Это был конец 80-х-начало 1990-х годов, тогда это было непопулярно. У меня была небольшая коллекция из русских мирискусников — живопись и театральные эскизы.
Я стал ездить в Прагу, мне она понравилась, и я решил купить там квартиру. Понадобились деньги — и я продал свою коллекцию, тогда уже на нее появился спрос. Это мне помогло с квартирой, но осталась какая-то пустота: «коллекции нет, я ничего уже не собираю». Собирать то же самое я уже не мог — мою бывшую коллекцию нельзя было воспроизвести. Какую коллекцию начать — я не знал.
Как-то с друзьями мы поехали в город Мейсен, который находится недалеко от Праги, рядом с Дрезденом, а от Праги к Дрездену — около двух часов на поезде. И мы, конечно же, пошли по антикварным магазинам. В каком-то из них я увидел мейсенскую чашку с ручной росписью XVIII века. Когда я ее купил, стал искать другие вещи такого типа. Нашел еще одну, две. Потом понял, что конец XVIII века мне неинтересен. Мейсенский фарфор стал уже более или менее ширпотребом, было много других фабрик в Германии, которые делали не хуже. А вот что мне было интересно: изобрели твердый фарфор в Европе, в Мейсене, в 1709 году. Фарфор этого периода собирать стало интересно. В конце-концов у меня получилась коллекция Мейсенского фарфора с 1710 до 1740 года.
Пока это не имеет прямого отношения к роману… Как-то мы были в Марианских Лазнях (Мариенбаде). Рядом с Марианскими Лазнями есть немецкий городок, который называется Зельб. В этом городке раз в год, в первые выходные августа, проводится огромная ярмарка фарфора, приезжают дилеры, фабрики. Часто продают новые вещи, но очень много и старых. Я приехал, ничего не нашел. Уходя, заметил маленькую фигурку пастуха в довольно плачевном состоянии, со старыми реставрациями. Это были 70-е годы XVIII века. Фабрика была — Людвигсбург, тогда я этого не знал, потому что не было клейма, фигурка мне понравилась, и я ее купил. И стал искать похожие и нашел другие вещи этого же мастера. И понял, что на всех фигурках молодых мужчин этого мастера изображено одно и то же лицо. Тогда я стал строить какие-то свои домыслы — у меня неплохое воображение. Этот мастер обербоссиерер Лойс действительно существовал: известен год его рождения и смерти, известно, что он был главным мастером по фарфоровым статуэткам на этой фабрике. Все остальное — домыслы.
В вашем романе сочетаются хрупкое и тяжелое, прекрасное и отвратительное — вам это понадобилось для полноты картины?
— Конечно.
Вы не хотели никого специально шокировать?
— Конечно нет, жизнь и сама нас шокирует, мы живем в каких-то шоковых ситуациях. Во всяком случае, я решил не чураться сложных тем, не бояться подробностей. Мне кажется, что я вышел на интересный контраст между высоким и низким. И из этого контраста, из этого столкновения и происходит то, что называется жизнью. Одно невозможно без другого. И если оно невозможно, об этом надо говорить, это надо видеть, и престать бояться.
В одном только Лойсе заложены и тяжесть, и нежность. Формовщик — существо грубое, но он делает хрупкий фарфор.
— И он создает искусство, высокое искусство — из глины, из земли. Поэтому такие подробности про здоровье, эксплицитные, сексуальные подробности — все это часть высокого — искусства, любви, каких-то высоких материй.
И умер он практически счастливым.
— Да. Когда пишешь, не всегда думаешь о том, что это значит. Так получилось, что у меня Лойс умер в рукописи раньше, чем это произошло в последней редакции. Я дал почитать рукопись своему хорошему другу. И он сказал: «Мне его очень жалко». — «Всех нас жалко, — ответил я, — Что же делать? Умер и умер». Кстати, обербоссиерер умер не таким уж и молодым: ему было 72 года или больше, для того времени это был солидный возраст. До него главный формовщик умер в 29 лет. Друг ответил мне: «Нет, нужно что-то — он такой несчастный». Я же решил, что все, книга закончена.
Чуть позже я планировал поездку в Людвигсбург, где находились музей и архив, — хотел уточнить, как выглядит фабрика, какие деревья росли тогда в аллеях — сейчас там растут каштаны и липы, в то время росли только липы. Мне надо было и текст немножко подправить: фабрика была сначала в одном месте, потом — в другом, а это значит, что мне нужно было изменить место фабрики, сделать фотографии. Это была очень продуктивная поездка.
Когда я работал в архиве, архивист мне показывала какие-то документы и книгу. «Что это за книга?» — спросил я, — «Это перепись за такой-то год». Архивист нашла дату смерти моего мастера и место, где он был похоронен. Так я узнал, что Лойс — католик, был похоронен в Мюнстере, а не в Людвигсбурге. Мне нужно было исправить рукопись: Лойс не ходил в городскую церковь, потому что он должен был ездить в католическую церковь. И в конце мне нужно было поменять: на кладбище его везут рано утром в Мюнстер, это несколько часов, и они встречают герцога и его свиту, которые едут на охоту. У меня он умирал зимой — значит, ему нужно было дать пожить еще несколько месяцев. А я уже описал его болезнь. И решил, что у него будет улучшение. И описал это улучшение: как они гуляли, как они мечтали… Получился счастливый период и для меня, и для героя. Мой друг прочитал и сказал: «Это замечательно! Теперь пускай умирает — он счастлив».
В 2018 году вам в издательстве Meridian Chernowitz не говорили: «Анатолий, ну куда нам такой роман? Кто будет читать такое в Черновцах?
— Не говорили. Им очень понравилось, и они с удовольствием его напечатали.
Насчет того, кто его будет читать… Конечно, у него аудитория узкая. Я понимаю, издателям важны продажи. Но я — автор, я никогда не думаю «кто это будет читать», потому что мне самому интересно, я пишу для себя.
А разговор, который случается после книги — он вам важен?
— Мне он интересен.

Перейдем к книге, которую представляли вчера на Фестивале. Обложка проиллюстрирована прекрасным художником Виктором Пивоваровым. Он сам дал картинку для книги?
— Да, Виктор Пивоваров — мой друг, дело было так: мы с моим соавтором, Борисом Брикером стали искать обложку, или художника, который сделал бы нам обложку. А Борис очень любит работы Пивоварова, и говорит: «Спроси у Виктора, вдруг у него что-то есть». Я говорю: «Вряд ли Пивоваров специально будет делать обложку для нашей книги. Но у меня есть работы Пивоварова, которые он мне подарил. Может, можно будет одну из них взять на обложку (правда, они не так хорошо подходят), а может, он что-то предложит из других работ. И я — без задней мысли, — дал почитать рукопись Пивоварову. Ему понравилось. Тогда я попросил работу на обложку. Он ответил: «Толя, я подумаю». Как раз в это время у него проходила и проходит сейчас большая, замечательная, персональная выставка в Национальном музее. В то время он ее только развешивал. Как-то он мне звонит и говорит: «Толя, мне кажется, что я нашел картину, которая может послужить вам хорошей обложкой. Когда будет открыта выставка, посмотрите. О отправил мне фотографию. Мы поняли, что эта работа нам идеально подходит.
Книжка, которая создана как условный словарь языка, которого больше нет, может быть определена как признание в любви к родному городу?
— Думаю, да. К городу, прошлому, родителям, бабушкам и дедушкам. Это такое щемящее чувство, которое всех нас охватывает, когда мы думаем о своем детстве, и оно связано с гением места. Конечно, когда мы писали, нас вдохновляли не только эти фразы и слова, но и воспоминания о наших школьных и университетских друзьях, дома и улицы (это есть в предисловии). Все это происходило здесь. Я жил на улице Островского (которая сейчас Сиди Таль), а Борис жил на улице Котляревского — там внизу тот маленький кусочек улицы, сейчас он называется Штейнбарга — напротив тыльной стороны Еврейского дома. Все это в книжке описано. В предисловии мы пишем о каменных выступах, на которых сидели мы, наши дедушки и бабушки, точно такие же были и на Островского. Раньше это были ступеньки, потом при них уже не было дверей. А эти каменные или цементные ступеньки остались, и мы на них сидели. Это очень нам помогало.
Как думаете, эта локальная черновицкая история может быть применима к любому городу, к любому штетлу?
— Мы специально не думали о том, что она может быть применима к другим штетлам. Видимо, да, потому что наше поколение и наши переживания, наверное, мало отличаются от каких-то людей, которые жили в похожих городах. Но как много похожих городов и совсем маленьких штетлов? В 70-е годы, наверное, мало что осталось. Черновцы в этом смысле — город довольно уникальный — евреев было достаточно много, чтобы это было какое-то ядро, у которого была своя жизнь, параллельная, накладывающаяся на жизнь советского города, хотя Черновцы трудно назвать чисто советским городом. Люди, которых мы знали в Черновцах, хорошо знали и Австрию и Румынию. В России таких мест уже не оставалось, мои бабушка и дедушка попали в Советский Союз в 1939-м, жили в Аккермане, это Одесская область. А Румынию они знали до 1939 года, до этого они знали Российскую империю, поэтому русский язык у них был родным (идиш — вторым родным).

Вы специалист по иронии, тут у меня два вопроса: в ваших рассказах нет тотального смеха, встречаются трагическое и смешное. Это ваша ирония?
— Да, это ирония как мировоззрение, как взгляд на мир. Ирония, которая смотрит на человека как на существо. Мы сами — те, кто пишет и эту иронию создает, мы смотрим на себя, жалеем себя, понимаем себя, смеемся над какими-то вещами. Поэтому тут одновременно есть и что-то смешное и трагическое, скорее грустное. Я не сравниваю себя с Чеховым, но Чехов — типичный представитель такого отношения к миру и такого подхода к человеку.
Что, какую форму вы предпочитаете, роман или рассказ?
— Мы с моим соавтором начали писать рассказы, когда нам было, наверное, лет по 16. Или даже немножко меньше. Первый рассказ был напечатан, когда нам было 17. Но начали писать мы где-то в 9 классе. С тех пор мы писали вместе, около семи лет, и это были рассказы. Потом я прервался — писал статьи и литературоведческие книги. Сейчас мы вернулись к этому жанру в нашей последней книге. Мы не думали, что будем писать рассказы, думали, что это будет совсем другая книга. Так получилось. Я вообще ленюсь: мне трудно задумывать большой проект, поэтому, видимо, большой проект у меня распадется на маленькие. И свой роман я писал как повесть, это потом, когда люди стали читать рукопись, стали говорить на нее «роман». Я не стал никого разубеждать, убрал все упоминания о повести, но я не называю эту книгу романом). Но, наверно, да, это короткий роман, потому что там больше событий и жизненного пространства, чем в повести. Так что это был короткий роман, а тот, который я сейчас пишу, — тоже как бы роман, он состоит из больших кусков, и они связаны. Но это — не роман-эпопея, не роман-сага и даже не роман, который описывает какую-то семью или какого-то человека за много лет его жизни — это не мое.
У этого будущего романа есть рабочее название?
— Вообще-то какое-то название у меня там стоит, но чем дальше я отхожу от начала (я же 20 лет понемногу его пишу), тем меньше оно подходит. И я даже понятия не имею, как все в итоге будет называться. Но что-то там будет связано со словом Еscape
Исход?
— Скорее не исход, а бегство. Сейчас оно называется «Бегство в рай», но это очень рабочее название, и не думаю, что оно останется.
Ваш метод какой? Все помнить, передавать по наследству историческую память или все забыть, освободиться от этого прошлого — оно же было не сильно счастливым?
— Я стараюсь не быть связанным историей, исторической правдой, хотя в романе, который я писал оXVIII веке, я старался придерживаться деталей. Но эти детали для меня были просто фоном, как и наша жизнь происходит на фоне города. Это — фон и при этом часть нашей жизни. Я думаю, что историческая точность «что было и как это было» — нас интересует меньше, чем то, что мы чувствовали при этом и как складывались у нас отношения — с друзьями, городом и так далее. Так что это более импрессионистическое виденье, чем реалистическое.
Вы писали о детективах. Вам никогда не хотелось написать детектив?
— Хочется, но мне очень трудно писать детектив, я не умею, никогда не пробовал. Но в этом романе, над которым я работаю, я собираюсь сделать детективный кусок, потому что люди любят детективы, я лично обожаю детективы. Я представляю, что будет кусок какой-то романной детективной интриги, потом будет большой кусок другого типа, потом снова будет продолжение вот этого первого и так далее. Как оно будет — начнется с убийства или убийство будет просто частью этого романа, но там даже не будет понятно, что это убийство, но читатель сам поймет? Я еще не знаю.
Когда вы уехали из Черновцов, это был один город, это был Советский Союз. Вы возвращаетесь время от времени в Черновцы. Меняется ли с годами такой литературный ландшафт вокруг?
— Да, литературный ландшафт очень поменялся. Когда мы уезжали, это все были советские писатели, Союз писателей был еще одним продолжением партийного аппарата. И в общем-то я ничего интересного никогда не читал, что бы было написано в Черновцах в то время. Даже в Киеве были хорошие писатели, которые при этом были членами Союза писателей. Сейчас в Черновцах есть хорошие писатели, — например, Марианна Гончарова, которая вела презентацию «Мы не говорим на идиш». Я, к сожалению, мало читаю по-украински. Последнее, что я прочитал, — «Интернат» Жадана. Он не черновицкий автор, но мне очень понравилось. Это замечательная книга.
Текст: Вика Федорина