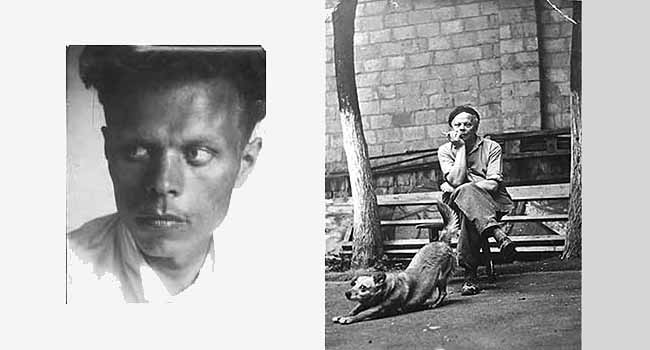В Киеве есть неглавные, тихие музеи. Никто (кроме туристов и школьников средних классов) понятия не имеет, что в них происходит: не знает-не помнит-со времен школьных экскурсий не заглядывал.
Так начинаются все статьи этого музейного цикла. Об этом музее знают только музыканты (не все), родные и ученики. Это киевская квартира, музей у которого нет статуса городского или национального. А между тем это — кабинет-музей великого композитора, «главного формалиста» Бориса Николаевича Лятошинского.
Мы встречаемся с киевским композитором и гобоистом Максимом Коломийцем у Ролита, дома Рабочих литературы, подъезд с мемориальной доской, звоним.
Поднимаемся на второй этаж, нас ждет хранительница архива Бориса Лятошинского, пианистка Татьяна Гомон, — входим в квартиру.

Тут с 1939 года жил и работал Лятошинский. Татьяна проводит беглую экскурсию — показывает фисгармонию, два фортепиано, на стене — известный портрет композитора.
Теперь тут живет семья — Татьяна провожает нас в кабинет (стеллажи с нотами и книгами, рояль, письменный стол) и рассказывает:
— Своих детей у Лятошинских не было, с ними с 1933 года начала жить пятилетняя племянница Маргариты Александровны (жены композитора) Ия. После того, как не стало и Бориса Николаевича, и Маргариты Алексадровны, Ия Царевич стала первой хранительницей архива Бориса Лятошинского, его главной исследовательницей и исполнительницей произведений композитора. Она была замечательной пианисткой, профессором Киевской консерватории. Я — ее ученица и жена одного из ее внуков.

Вы показываете кабинет Лятошинского всем желающим?
Татьяна Гомон: Конечно. Не было такого, чтобы кому-то отказали.
Максим Коломиец: На центральном месте портрет …

Татьяна Гомон: Вагнера. Он огромный, у посетителей всегда возникает вопрос – это его любимый композитор? Лятошинский любил Вагнера, но предпочтения ему не отдавал. Какого размера подарили портрет – такой и висит (улыбается).
Максим Коломиец: А этот гонг? (на стене у входа висит медный гонг)

Татьяна Гомон: Борис Николаевич привез из поездки, это сувенир. В гонг хотят ударить все, кто приходит сюда, это прямо ритуал.
Максим, вы спрашивали, его ли это рояль? Его. Но Борис Николаевич не работал за инструментом.
Максим Коломиец: В смысле? А как он работал?
Татьяна Гомон: Я сейчас читаю письма Бориса Николаевича, в них он пишет: «Нет возможности поработать за письменным столом». Жалуется на то, что все время его отвлекают разные дела, которых так много – в том числе и педагогическая работа. И нет: «Нет времени сесть за рояль».

Максим Коломиец: У меня вроде бы и учеников нет, а проблемы те же. А это ведь радио, да? (на письменном столе по углам стоят два старинных приемника).
Татьяна Гомон: Да. После войны ему подарили трофейный немецкий приемник. А вот это одновременно и радиоприемник, и старый бобинный магнитофон.

Он очень много и часто слушал радио, особенно в 1920-е и 30-е годы годы. Ловил трансляции из Франции, Германии, Польши самых разных произведений и исполнителей. Он писал об этом жене, когда был не в Киеве – давал ей наставления, что и когда слушать. И очень переживал, если какая-то харьковская волна мешала услышать Берлин. Еще один приемник стоит сейчас не в кабинете, в другой комнате.
Максим Коломиец: Забавно, что приемник на письменном столе, а не возле дивана, кровати. Интересно, как он в принципе организовывал свой рабочий процесс, что было под рукой? – рояль, проигрыватель, письменный стол?
Татьяна Гомон: Я не композитор, я — исполнитель. И понимаю я композиторскую работу немного иначе. Для меня было откровением узнать, как он писал симфонии. Мне казалось, что композитор фиксирует симфоническое произведение сразу в инструментовке. Лятошинский же писал клавир, который мог потом и полежать, пока руки доходили до инструментовки.
Максим Коломиец: Тут все понятно. Если он пишет клавир, это не означат, что он не понимает, как с ним работать оркестру.
Татьяна Гомон: Да, конечно. Вчера мы долго переписывались с Евгением Громовым о 1920-х годах. Лятошинский в 1960-х годах писал о своей «Скрипичной сонате» (1926): «Видимо я не очень еще состоялся как композитор, потому что она мне все еще продолжает нравится. Хотя написана она в период моих формалистических «преступлений»…».
Максим Коломиец: Да? Он так об этом говорил?
Татьяна Гомон: (кивает) И еще: «Я очень жалею, что далеко отошел от тех гармоний, которые есть в «Скрипичной сонате». Лучше об этом не задумываться, потому что становится грустно». Можно только предположить, что дальше он пошел не совсем по этому пути, хотя и делал это гениально.
Максим Коломиец: Знаете, есть известное высказывание: «Тот, кто не был в юношестве анархистом, у того нет сердца. Кто не стал консерватором, у того нет мозгов». На самом деле это логичный путь. У многих авторов, которых «не ломали» и все было в порядке, было так, что они в итоге все равно к этому приходят.
Татьяна Гомон: Я об этом думала тоже. Если бы в Украине не было таких тяжелых 1920-х годов, вряд ли бы мы услышали такие прекрасные и глубокие романсы Лятошинского этого периода.
Максим Коломиец: Было бы что-то другое.
Татьяна Гомон: Безусловно.

Максим Коломиец: Для меня прозрением было то, что пару лет назад Лахенман написал абсолютно тональное произведение. Оказывается, он на заказ написал его. Помните – то ли марш, то ли что-то другое? У Лятошинского все — модально-тональное или около-тональное. Во всяком случае, нельзя сказать, что только тональное или додекафония.
Татьяна Гомон: Он интересно описал свое впечатление от «Варшавской осени», когда приехал на фестиваль в 1958 году. Что интересно: Варшава ведь тоже была социалистическим лагерем. Но они и тогда гораздо больше имели возможностей слышать разную музыку.
Максим Коломиец: Конечно.
Татьяна Гомон: Так вот, Борис Николаевич пишет в письме: «По сравнению с додекафонистами мы все тут просто «пасхальные барашки». Но в сравнении с авангардистами даже додекафонисты – «пасхальные барашки». Он пишет об этом и не с отрицательной, и не с положительной точки зрения — просто фиксирует.
Максим Коломиец: Понимаю, он был открыт этому всему. Когда ему что-то приносил молодой Сильвестров – Лятошинский спокойно к этому относился. Человек вроде бы из Советского Союза, но очень открытой позицией.
Татьяна Гомон: Мне запомнилась одна фраза из письма: «Моих самых талантливых учеников (речь о 1960-х годах) тянет «влево». Их за это бьют, и мне тоже тяжело». Леонид Грабовский, как раз один из тех талантливых учеников, которых тянуло «влево», как-то за столом в этой самой квартире сказал: «Самое ценное, что было в педагогическом методе Лятошинского – это его открытость всему. И поддержка».
Максим Коломиец: Это удивительно. В Советском Союзе это редко встречалось: его ломали, но не сломали. Он и лицо свое сохранил, и себя в общем-то тоже.
Татьяна Гомон: Да. Были моменты на грани: почему он не сел? Почему его не забрали? Очень много факторов, о которых мы (пока) не знаем. Видимо, сработал какой-то фактор друзей — был Глиэр, был Бэлза. Но Лятошинскому было очень тяжело. Видимо в ответ на жизненные обстоятельства у него выработался сарказм в оценке очень многого. Когда его какое-либо произведение не исполняли (а таких было много), он говорил: «Ладно, через два года исполним. Мне спешить некуда».

Максим Коломиец: Понятно, что сломать можно кого угодно. Но тем не менее, что-то его исполнялось. У нас сейчас ситуация такая: никто никого «не ломает», но, с другой стороны, никто никому и не нужен. Многие современные произведения не звучат, и неизвестно, прозвучат ли.
Татьяна Гомон: Сравнивать ситуации все-таки не стоит.
Максим Коломиец: Я согласен, было тяжело, но все-таки были заказы, произведения исполняли, был доступ к оркестрам, исполнителям?
Татьяна Гомон: Ограниченный. Как и сейчас, композитор сам «пробивал» исполнение своих произведений. А цензура… Борис Николаевич так и не принял собственноручно переписанный им финал Третьей симфонии. «Слишком много треска», напишет он в одном из писем.
Максим Коломиец: Написано талантливо.
Татьяна Гомон: Я об этом и говорю. Талантливо, очень. В этом смысле очень показательно его отношение к своему Украинскому квинтету. В ответ на многочисленные восхищения, он считал, что ничего особо интересного в нем нет. Как многие слушатели тогда и сейчас, я, как исполнитель, не могу с этим согласиться никак – в моей исполнительской практике я не играла ничего сложнее, чем «Украинский квинтет» Лятошинского.
«Квинтет» Лятошинского на Фестивале «Букет» исполнит Антоний Барышевский?
Татьяна Гомон: Да. Когда его играли в «Доме актера», я подошла к Антонию, услышала от него: «Это было очень трудно. Но когда ты играешь, получаешь огромное удовольствие при исполнении, все компенсируется».
Безусловно, это очень талантливо, поскольку это Лятошинский.
При этом в 1948 году он пишет про свое творчество военных лет: «Я очень упростил свой язык. Да, я могу признать: до войны я был сложен, но уж намного проще Шостаковича. Но последние годы мне кажется, что я до неприличия прост».
Максим Коломиец: Я так понимаю, он не про техническую часть – про то, как сложно или легко это исполнять. Он – о своем языке.
Татьяна Гомон: Конечно.
Максим Коломиец: Могли бы и тут придраться: «А вот тут изуродованы украинские мелодии»?!
Татьяна Гомон: Безусловно могли.… В общем, наше прошлое — сложная штука.
Максим Коломиец: «Совок» тогда закрылся в себе – что производят, то и употребляют. Точно так же и в музыке. У нас есть свои композиторы – что они пишут, то мы и исполняем.
Татьяна Гомон: Максим, вопрос к вам: музыка к кинофильмам среди современных композиторов воспринимается как творчество или как способ зарабатывания денег?
Максим Коломиец: Идеально было бы и то и другое. Возьмем простой пример — Морриконе. Но о чем идет речь — о музыке к фильмам или театральным постановкам?
Это все-таки очень разные… медиа. У меня была такая установка: есть серьезная музыка — это концерт, все остальное – неважно. А сейчас я понимаю, что бытование музыки может быть самым разным. Она может звучать на перекрёстке, на светофоре, в супермаркете. Можно звонить кому-то по телефону, и там заиграет какая-то музыка. Это не означает, что она плохая, и что в концертном зале – все хорошо, а все, что не в концертном зале – по определению плохо.
Татьяна Гомон: В письмах Бориса Николаевича много раз звучит: «Я пишу музыку для кинофильмов для того, чтобы поправить свои материальные дела». А вот театральные постановки он совершенно по-другому воспринимал.

Есть искусство и есть поденщина?
Татьяна Гомон: Во всяком случае я так поняла.
Максим Коломиец: Бывает самого разного качества музыка. У Прокофьева хорошая киномузыка.
Татьяна Гомон: Не думаю, что у Лятошинского киномузыка хуже. Он часто из материала, который писал к кинофильмам, потом делал сюиту для концертного исполнения. Ему только, как я понимаю, не нравилось то, что в фильмах музыка находится на втором плане. А вообще он был настолько открыт, что, если бы жил сейчас, в современном мире, то абсолютно бы в него вписался. Ему многое было по-настоящему интересно.
Максим Коломиец: Лятошинский владел иностранными языками?
Татьяна Гомон: Английского он не знал, только французский, немецкий и польский. Свободно читал и общался.
Максим Коломиец: При этом он был замкнут в Киеве, который тогда был далеко не самым прогрессивным городом.
Татьяна Гомон: Я пока не докопалась до причины, что помешало переезду. А между тем, были ведь серьезные разговоры о нем в 1930-е годы, когда он параллельно работал в Московской консерватории.
О переезде в Москву или за границу?
Татьяна Гомон: В Москву.
Он вообще был «не выездной»?
Татьяна Гомон: Вы имеете в виду, из Союза?
Да.
Татьяна Гомон: В первый раз он поехал членом жюри от Советского Союза на конкурс квартетов в Бельгию в 1956 году. До этого ездил с женой в Чехословакию на лечение (но это страна социалистического лагеря). В капиталистический лагерь его выпустили только в 1956 году. Тогда же он впервые полетел на самолете. Потом, в 1960-е годы, совершал туристические поездки, от Союза композиторов, с явно приставленными людьми.

Максим Коломиец: Могу представить, как ему было тяжело. Человек прогрессивных взглядов, при этом «не выездной», жить в Киеве, а не в Москве. Вокруг не так много всего происходит. Я как-то пытался найти украинских композиторов, нераскрытых, забытых, неизведанных. Они либо как-то рано умирали, либо уезжали, либо как-то не раскрылись. Кроме Лятошинского…
Но знаете, многие композиторы моего поколения тоже уехали…
Мы переходим к стеллажам — сверху бобины с записями, книги о музыке — биографии, монографии, ноты.
Татьяна Гомон комментирует: Много нот польских композиторов, особенно после 1939 года, также Глиэр присылал ему каждое издание своих произведений.
Максим Коломиец: Интересно, что он сам изучал?
Татьяна Гомон: Ия Сергеевна рассказывала мне о том, что в последние годы его особенно интересовали квартеты Бетховена. А вообще его интересовало все. Очень любил Мясковского. Из писем знаю, что Малера любил, но Третью его симфонию после концерта покритиковал сильно.
Максим Коломиец: Получается, что Бетховен – это старый язык. Все-таки разница между ними – 100 лет. Он же свой современный язык на чем-то основывал… Я вижу партитуры Штрауса. Вот «Саломея». Какая там была ситуация? Запрещали слушать Штрауса?
Татьяна Гомон: Не знаю, что было запрещено. Я подготовила рукописи тех произведений, которые имеют отношение к концерту (и будут исполнены на Bouquet Kyiv Stage). На некоторых из них четко стоит гриф «запрещено». А это вот романсы на слова китайских поэтов в клавире, и они же в партитуре. Рукописи фортепианных произведений – «Отражения», Соната.

Мы листаем ноты, это автографы, мы рассматриваем пометки на них, Максим комментирует. Прощаемся с Татьяной, ударяем в гонг и выходим.
Максим, у меня один вопрос ко всем участникам программы «Лятошинский Гала»: «что для вас значит Лятошинский?», — можете на него ответить?
Максим Коломиец: Для меня Лятошинский – это круто. Это человек, у которого была возможность уехать. Он — остался. Если бы он уехал, украинская музыкальная литература не состоялась бы. То есть украинской музыки в том виде, в котором она сейчас есть, просто бы не было. Наверное, было бы что-то другое. И позже.
Я понимаю, что этот выбор не простой и, наверное, в тот момент не очень логичный. В итоге Лятошинский становится тем, кто решает всю будущую историю развития украинской музыки. И этот поступок достоин геройского звания.