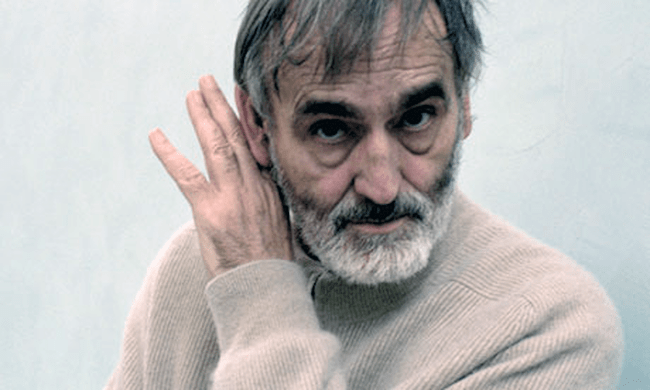Лидер послевоенной голландской музыки продолжает Стравинского, привносит в филармонии джаз-бэнды, пишет на полуфашистские тексты Платона, сотрудничает с Гринуэем, сатирически аранжирует Битлз и веселится.
Общим местом стало рассказывать о том, что композиторская музыка XX века разделилась на “шёнберговскую” и “стравинскую”; в случае с Луи Андриссеном эта дихотомия имеет смысл. Попробуем разобраться. Вот в каком состоянии позднеромантическая музыка пришла к Арнольду Шёнбергу и Игорю Стравинскому:
Обрывки гармоний, куча слоёв, осколки жанровых моделей и множество общих форм движения — сложно; нужно было упрощать. Шёнберг решил взять общие формы движения и углубиться в их абстрактную красоту. Для этого нужно было деромантизировать гармонию и уменьшить количество жанровых отсылок. Слушаем:
Музыка стала пластичнее; мы меньше стали задумываться над тем, что она “значит” и больше о том, как она сделана; уважать каждую из возможных гармоний. Ноты независимы друг от друга по горизонтали и вертикали; убираем приятное и неприятное. Позже появились идеи вычленять каждый тембр, каждую ноту; усложняли так долго, пока не оказались в жутком кризисе.
Для Стравинского эти решения были слишком половинчатыми, скучными, несексуальными. Игорь Фёдорович вспомнил про старинную музыку, про фольклор, про древние лады и попевки, про суровые просты ритмы, а также о том, что музыка — это застывшая архитектура.
Стравинский привнёс повторяемость, грув (желание танцевать, двигаться под), графичность. Он обнажил паттерны, шаблоны, элементы, из которых состоит звуковое искусство. А также, что крайне важно для нашей статьи, он, отказавшись от романтического пафоса, придал музыке характер карнавала, пространства, где можно надевать разные маски.
Герой нашей статьи, Луи Андриссен (р. 1939), начинал как мамкин отличник: сын композитора, брат композитора, студент консерватории, а потом ещё и пару лет ученик классика двадцатого века Лучано Берио. Логично, что после всего такого правильного наступил бунт; поразительно, что бунт оказался настолько успешным.
Для начала, его музыка принципиально антифилармонична. Он пишет либо для своих ансамблей, либо для изобретённых самим собой составов, либо для почти что начинающих студентов; словом, всячески избегает инерции, напрашивающихся решений, лёгких голов после любезных пасов от коллег недавнего прошлого.
Во-вторых, избегая и классико-романтических, и усложнённо-современных техник, Андриссен привносит в музыку мощный, почти индустриальный саунд рок-, джаз-, металлических коллективов. Неудивительно: речь о 60х-70х, о расцвете звукозаписывающей и звуковоспроизводящей индустрии. Штокхаузена с Булезом на лопатки положили Битлс.
В “Гокетах” (1977), написанных для студентов Гаагской консерватории, бесстыдно простая техническая идея: разделим исполнителей на две группы, заставим их сначала реагировать друг на друга, затем научим их всё более сложным (но всё ещё бесстыдно простым!) ритмическим приёмам. Элементарная ритмика, элементарная реакция, почти что собаки Павлова.
Насколько дешёвой могла бы быть такая пьеса, если бы не упомянутый выше саунд. Андриссен любит всё мощное, ударное, яркое; он ненавидит вибрато, коими славится большая опера и романтические струнные; ненавидит романтические же замедления-ускорения, бесконечные фигурации. Вместо этого — суровые выстрелы, механистичные повторения, чёткие графические отражения. Физический аспект звука Андриссена невероятно важен; соединяясь с приятно болезненными, воодушевляюще яркими гармониями, он воздействует как электрификация.
Кстати о Ленине. У Андриссена есть “Мавзолей” на слова Бакунина, но сейчас речь не о том; Ленин был не первый радикальный эссеист, до него были свои герои, например, Платон. Ученик Сократа и учитель Аристотеля много чего вещал о том, кто чего кому должен, в том числе и про музыкантов; Андриссен взял его тексты, весьма жёсткие и нравоучительные, и написал масштабное и вдохновляющее произведение “Государство” (1976). “Абстрактный музыкальный материал — звуковысотность, длительность и ритм — за пределами социальных условий; он основан на природе. Но в момент, когда музыкальный материал упорядочивается, он становится культурным и начинает относиться к социальным категориям”, несколько обескураживающе просто пишет Андриссен в текстуальном пояснении к пьесе. Музыка значительно глубже этой формулы; слушаешь и представляешь себе идеально расчерченную голландскую землю, плотины против моря, амстердамские каналы, ну и до кучи какой-то холодноватый триллер-детектив или драму. Скандинавия, скажете? Ну там недалеко.
Также у Луи есть пьеса “профсоюзы” и вообще, если судить по названиям и духу, много типично западноевропейского левачества. Вполне иронично (постиронично?), что по прошествии десятилетий техника Андриссена, его гармония, его дух стали общенациональными, официальными, номенклатурными; так случается со всеми успешными бунтами и революциями.
Как истый левак и революционер, Андриссен уделяет огромное внимание воспитанию новых канонов, передачи знаний молодым поколениям. Вот, например, “симфония открытых струн” (1978): здесь нельзя прижимать пальцами струны. А всего-то струн на струнно-смычковых инструментах 4 (на некоторых контрабасах 5). Как быть? Перестроить. Иначе натянуть колки. Зачем это издевательство? Это, как ни странно, учебная работа для студентов: на ней они учатся ансамблевой игре и счёту. А ещё — новой, суровой, железной красоте. И веселью.
В главном своём произведении, четырёхчастной опере “Материя” (1988) Андриссен рассказывает истории из голландского прошлого: акт независимости от Испании из XV века, тексты теологов, поэтов, воспоминания о художнике (Пите Мондриане) и, внезапно, дневники и нобелевская речь Марии Склодовской-Кюри. Грандиозно начало “Материи”: 144 повторения (естественно, с изменениями периодичности) одного и того же аккорда.
Создавая такую громадину, Андриссен не мог обойтись повторениями, элементарными попевками и комбинациями разного рода аскетичных ударов; пришлось брать из культуры больше, например, имитировать мощный джаз-бэнд, вспоминать буги-вуги. Правда, на всё это наслаиваются всё те же суровые простые лады. Третья часть оперы “Материя”, “De Stijl” (название изобретённого Питом Мондрианом художественного направления), — пожалуй, один из наиболее сексуальных и танцевальных примеров музыки Луи.
Яростно отрицая субъективность и романтичность, надевая маски других эпох и техник, Андриссен очень удобен для сотрудничества с другими дисциплинами. Ненависть к классической опере логично привела Луи, начиная с 80х, к своему музыкальному театру, где он творил с настоящими гигантами своего дела (Роберт Уилсон, Марайке ван Вармердам). Вот, например, совместная работа (1991) Питера Гринуэя и Луи Андриссена для телевидения, посвящённая двухсотлетию Моцарта: тут через букву “М” проходит человек (man), движение (movement), музыка, ну и, наконец, небезызвестный австрийский композитор.
Дистанция, расчёт Андриссена иногда воплощаются в откровенно уже юмористических работах, типа такой. Ваши глаза вас не обманывают, это и вправду называется “Девять симфоний Бетховена для оркестра и колокольчика мороженщика” (1970). Тут сквозь фрагменты бетховенских полотен просматривается популярная, в том числе утилитарная музыка разных времён, знакомая нам по поп-концертам, фильмам, рекламе… Монтаж, склейки, заедания, внезапные повороты. Ничего святого.
Можно не только трактовать старое через новое. Можно и наоборот. Вот сатирические аранжировки популярных хитов Битлз (1969). Сатирические ли? Кажется, очень нежно. Нескольким песням рокеров Луи находит подходящие фактуры из прошлого, из камерной вокальной музыки. Что-то усреднённо романтическое (Шуман? Брамс?), что-то из начала двадцатого века (Пуччини, Дебюсси?), ну и наконец, откровенная барочная ария с обязательным речитативом в начале (правда, в исполнении фортепиано).
Наверное, прямо сейчас, во время карантина, самое актуальное произведение Андриссена — “Время” (1981) на слова блаженного Августина. Андриссен пишет: “я почувствовал, что время остановилось. Так продолжалось секунды четыре… Я решил воплотить этот образ в музыке”. Кто читал книгу Стивена Хокинга “краткая история времени”, знает, что автор там обращается к идее блаженного Августина о том, что время не существовало до творения. Луи ухитряется безо всяких физических экспериментов и гипноза заморозить восприятие — прямо как карантин. “Остановись, мгновенье, ты прекрасно”: и, вы знаете, получается действительно приятно, чего и вам желаем!
Алексей Шмурак