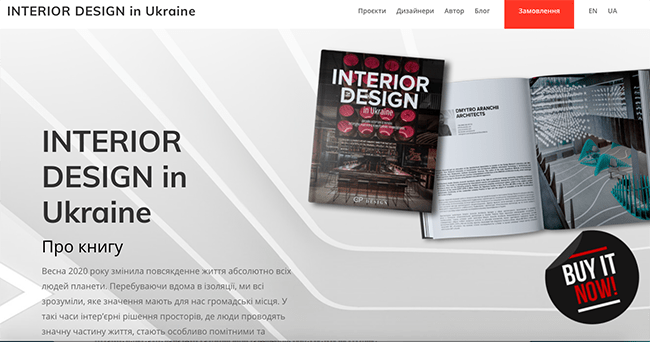Из воспоминаний доктора медицинских наук, профессора Любови КОГОСОВОЙ (1921-2020). Последняя глава воспоминаний.
Романов у меня было много. Так, во время войны был у меня очень большой роман с одним раненым, лежавшим в нашем госпитале. Придя однажды на дежурство в госпиталь, я увидела нового раненого, но не в лицо или в челюсти, а в ногу. Как он попал в челюстно-лицевой госпиталь осталось тайной. При знакомстве он оказался вполне симпатичным человеком – ассистентом Ростовского политехнического института. Побеседовав с ним я выяснила, что этот человек близок ко мне по духу, образованию, и, после выполнения моих обязанностей мы с ним всю ночь проболтали. Мы сразу почувствовали симпатию друг к другу, он даже попросил, чтобы приходила к нему и в свободные от дежурства дни, но я не согласилась. Вскоре он начал ходить, правда с помощью костыля и палки и пригласил меня на свидание. Я, хоть боялась огласки в госпитале, боялась отца, на свидание в бульвар, соединяющий улицу, где размещался госпиталь с центром города, я пошла, правда, взяв с собой подругу, тоже медсестру, студентку из Каунаса. На второй день я опять была приглашена на свидание, но было оговорено, чтобы я явилась без подруги и я, скрепя сердцем, согласилась, но попросила меня больше не тревожить. Да, на свидании я была скованной и дрожала от страха, что нас увидят и больше на свидания не ходила.
Но выглянув однажды из окна нашего, так называемого, дома, увидела, что Миша Дубошинский (так звали раненого) шагает по улице вдоль нашего барака, в надежде, что я выйду к нему и, я нашла подходящий момент и выскочила. И с этого дня мы начали наши ежедневные встречи. Гуляли мимо колхозных садов (наш «дом» находился на северном краю города) хлопковой базы и хлопкового завода (тогда госпиталь был в Душанбе) и нам было очень интересно друг с другом. Мы очень сдружились, много говорили, мечтали о будущем, даже много целовались, и так продолжалось несколько месяцев (рана все не заживала), пока его не выписали, правда не на фронт, а в военкомат в Усть-Каменогорск.
Перед выпиской, в день освобождения Киева от фашистов, он вдруг пришел к нам -я была не здорова и с папой. Я была очень удивлена, но обрадована. Мы вместе отпраздновали освобождение Киева. Но Мишу выписали, мы очень переживали расставание и условились, что будем переписываться, а после войны поженимся.
Мы действительно очень долго переписывались, но вскоре и мы с отцом и матерью покинули Душанбе, так как получили вызов вернуться в Киев. А когда в Киеве я встретилась с друзьями, я как-то охладела к нему. Надо признаться, что и он стал редко писать и со временем наша дружба закончилась.
Что касается романов – то их было еще много. Например, мною увлекся академик-математик Имлинский, который мне в жизни много и серьезно помог, помимо его, мною был увлечен знаменитый дирижер Рахлин, который во время исполнения оркестром какой-то симфонии, кричал в зал, находя меня: «Исполняю для вас». Я была глупой девчонкой и это мне нравилось, хотя я всегда вспоминала, как во время войны мы с отцом встретили Рахлина в Москве на Тверской, одетым в рванную одежду и в галошах на босу ногу. Правда он заинтересовал меня, исполняя на гитаре любые классические произведения. Отец очень боялся тех случаев, когда Рахлин, в одежде дирижера приходил вечером к нашему дому (в тех случаях, когда я не присутствовала на концерте). Отец считал, что вслед за ним появится его жена и будет скандал. Все это, понятно ничем не кончилось, остались только стихи, которые он сочинял и посвящал мне. Вообще ему много досталось в жизни: изгнание из Киева и киевского оркестра, смерть внука, постоянное давление сверху, последующее забвение и т.д. – правда, в последнее время его опять чтут.
Возвращаясь к прошедшему, хочу вспомнить еще одно событие. Во время государственных экзаменов (я их сдавала все на отлично) меня вызвал председатель госкомиссии и сказал: «Мы собираемся дать вам Красный диплом, но у вас 2 тройки на первом курсе. Пересдайте анатомию и химию», что я немедленно сделала.
Дело в том, что мы только что сдавали топографическую анатомию, и я анатомию вновь повторила. Спиров спрашивал, как и в первый раз, надпочечники, а теперь знания были более глубокие и мой ответ был оценен на 5, что Спиров с удовольствием отметил. Химию мне удалось тоже пересдать на отлично. Весьма довольна я принесла эти сведения в комиссию, но в тот же час была вызвана в партбюро, где мне объявили, что члену партии не годится пересдавать экзамены. И мою пересдачу не засчитали и я осталась с отличными отметками и просьбами к нескольким кафедрам оставить меня на работу в мединституте. А дальше было еще круче. 8 месяцев я не могла устроиться на работу. Как только вопрос доходил до 5 пункта, т.е. до национальности, мне заявляли, что мест уже нет.
И тут мне помог опять ак. Имлинский, друживший с сыном Богомольца, Олегом, который взял меня на работу в институте экспериментальной биологии и медицины, но тут очередная реконструкция института, которая сделала институт чисто физиологическим. Был объявлен конкурс и всех евреев повыгоняли. После многих мытарств и папиных походов в министерство и горздрав я получила работу в тубинституте. Отделом стал заведовать ученик Горева – Черкасский, а Горев числился консультантом, т.к. его оставили в физиологическом институте.
Первое время я не могла найти себе применения. Помогли клиницисты, попросив меня разобраться в вопросах патогенеза туберкулеза, а потом я набрела на вопросы реактивности организма, и хотя многие ученые института, например, патологоанатом проф. Юрьева и микробиолог – проф. Драбкина были настроены отрицательно к моему выбору направления работы, даже просили дать пощупать реактивность организма, я выдержала такое пренебрежение к моей работе все-же одержала победу. Тут, правда мне помог проф. Амосов, – он в это время решил заняться пересадкой сердца. Поэтому он посоветовал мне поехать в Москву изучить новые методы исследования, а при их, считать эти методы не методами реактивности, иммунологическими тестами, так необходимыми при пересадке органов и тканей.
Имя Амосова послужило мне рекомендацией, когда я являлась в какую-то знаменитую иммунологическую лабораторию. Я изучила все новейшие иммунологические методы, и вернувшись в родной институт, еще до применения этих методик для деятельности Амосова, применила их в клинике заболеваний легких. Это было ново и весьма интересно и давало глубокие полходы для понимания многих практических вопросов, необходимой не только в лаборатории, но и в практической медицине. Сразу я стала востребованной и, главное, ко мне стали направлять молодых врачей для освоения такой работы, которая оказалась не только исследовательской, но и необходимой в клинике.
Вот так я нашла путь моей последующей работы, а главное стала нужной для практической работы и смогла запланировать докторскую диссертацию.
Но наш хитрый парторг Баренбойм, с помощью директора института Мамолата решили, что должность старшего научного сотрудника должен получить хирург, да еще от Амосова, и эту должность получил Юзеф, перерезав мне пути для роста, несмотря на все мои «успехи и достижения».
Тогда существовало такое понятие, как семейственность, а именно то, что двум евреям из одной семьи получать блага жизни было весьма трудно. Старший научный сотрудник – была наша вечная тем для обсуждения в семье, и когда я, за какую-то провинность словами или шлепком по попе наказывала сына Сашу, он кричал: «Мамолат прав, что не дает тебе старшего», а это было не смотря на 14 диссертаций, успешно защищенными моими учениками – молодыми врачами, не только из нашего института, но с кафедр медицинского института и на сотни опубликованных работ и свидетельств об изобретении… А тут еще прибыл новый молодой директор-антисемит Молотков со своим подходом к молодым еврейкам, так что причин для переживаний у меня вполне хватало – только держись, и я крепилась и сквозь слезы мужала и научилась бороться, в результате только одна из трех женщин (я уже писала о них) получила – и звание профессора и должность главного научного сотрудника и выдвижение уже не нашим, а центральным Московским институтом на Государственную премию, так что я успокоилась и настроение у меня было на подъеме.
Наконец и Мамолату (Молотков умер) стало стыдно, – он вызвал меня и продиктовал жалобу на свое поведение, которую я должна была передать министру, что я и сделала. Министр вернул жалобу Мамолату с отметкой «Перевести Когосову на должность старшего научного сотрудника». На совете, где обсуждался этот вопрос, все профессоры посмеивались, а Амосов возразил: «Неужели они не понимали, что является причиной этого явления». Наконец все уладилось и даже на этом совете мне присудили звание профессора, и я повезла все документы в ВАК. Там тоже смялись и говорили, почему при таких достижениях ни ставки, ни звание профессора раньше Вы не получили, на что я этим чиновникам тоже пояснила: «Вам объяснить или Вы сами поймете?». Вот почему я на старости лет (мне уже стукнуло 75 лет) я стала старшим, а затем и главным научным сотрудником и членом всех научных советов.
Надо отметить, что процедура защиты, хотя и строгая, имела свои особенности. Главной особенностью был банкет сразу же после успешной защиты. Банкеты были оформлены не по настоящей жизни, была двуцветная икра: красная и черная, шикарная закуска, горячие блюда и сладкий стол, все это сопровождалось отличной выпивкой, так что придя домой я уже не ела.
Была еще одна заманчивая перспектива. Богатые фармацевтические фирмы заключали договоры с отдельными институтами, кафедрами, отделениями и учеными, чтобы получить оценку практическую и теоретическую новому лекарственному средству. Эта работа хорошо оплачивалась, и даже работникам оплачивались командировки на международные конгрессы, так что у научных сотрудников жизнь стала более привлекательной.
Теперь по телевизору и в печати мелькают сведения о бывших начальственных издевательствах среди писателей, поэтов и ученых. Мы также в нашем научном круге былого не ощущали, ни в период любителя наград Брежнева и его сменщиков, вплоть до Горбачева, которого все наши друзья и мы уважали, считая, что он сделал невозможное, но не до конца. У нас в садике возле театра украинской драмы, была определенная скамейка, где мы по вечерам собирались и обсуждали текущие события и политику Горбачева. Так мы и называли эту скамейку: «Встретимся на горбачевской скамейке». А на работе я вела беседы о преимуществе Горбачева.
Я вспоминаю то время, когда началось знаменитое дело врачей, когда я приходила на работу и меня спрашивали: «Твоего папу уже арестовали?»
Сталин перед смертью разыгрывал национальный вопрос, особенно против евреев. Поговаривали, что уже готовы составы, чтобы увезти нас подальше от «гнева народа», что уже строятся в Сибири и в северных районах бараки для евреев и т.д. Мой папа, понятно, волновался, зная, что некоторые его друзья – известные стоматологи в других городах уже арестованы. А так как его еврейство было ярко выражено, и он часто слышал от дирекции: «Либо Вы уйдете на пенсию, либо Вы будете там, где…», и он в 1952 году стал пенсионером, продолжая возглавлять наученное общество врачей-стоматологов, и написал шесть монографий, которые до сих пор продолжает быть незаменимым руководством для врачей многих специальностей. Наконец, Сталин погиб по неизвестной причине то ли от руки соратников, не то от инсульта. Страна замерла в ужасе. Все боялись, что последуют ужасные события. Все ходили с траурными повязками, казалось, что наступил конец жизни. Но время шло и все успокоились, и я на пошла на работу…
Любовь Когосова, 2010 год
Прочитать главы из воспоминаний известного врача Любови Когосовой, дочки ученого, внучки раввина — о себе, о времени и семье.
На фото Любовь Когосова с родителями и Лией Дробязко