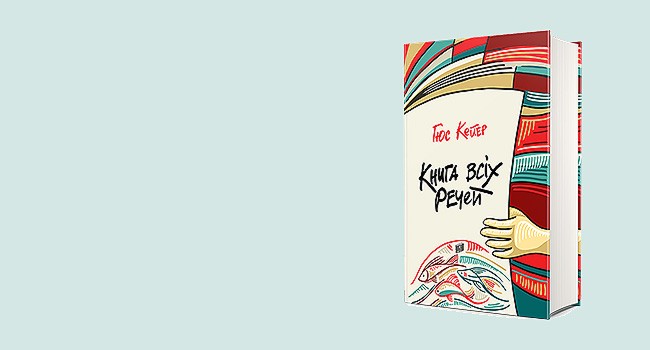Писатель, поэт, ведущий Радио Свобода и участник фестиваля Meridian Poltava Игорь Померанцев между поэтическими чтениями в Решетиловке и в художественном музее Полтавы поговорил с Kyiv Daily о чувстве языка, детском чтении и Черновцах.
Я хотела бы поговорить о возвращении: Черновцы, родители, язык.
— Боюсь, что я сам по себе— неинтересная тема, вот писательство, отношение писателя с языком, писателя с самим собой… тема интересная. Она может иметь значение, которое принято называть общественным.
Я работаю на радио, у меня выступают совершенно разные люди. Я отношусь к радио, как Зощенко, Василь Стефаник, Лесков к своим персонажам, но при этом мой слух шире. Я включаю в сказ интеллектуалов, но, как правило, даю им понять, что они тоже персонажи.
Недавно в мой передаче звучала харьковский философ. Она говорила о философии как о путешествии: есть философы-кочевники, а есть оседлые философы. Оседлые философы — это те, кто работают в чужом здании, уже построенном. Это неокантианцы, неоплатоники, постструктуралисты и так далее. А есть кочующие философы. Так вот, я — кочующий по жанрам писатель. Я всегда чувствую себя чужим, в литературе у меня нет дома.
Скорее всего, я стратегически проиграл, потому что читатель любит устоявшиеся жанры. Читатель читает рассказ, и ожидает от рассказа то, что принято понимать под рассказом. Что делает писатель-кочевник? Кочует из жанра в жанр, заметает следы, и читатель остается с чувством досады. Это как с политическими симпатиями: мы с удовольствием читаем политических журналистов, чьи взгляды разделяем.
Для журналистики – это нормально, что же до художественного текста… мне кажется, тут необходимо чувство риска. А риск — термин мореплавателей.
По-испански «рисковать» — «идти на скалу». Я в детстве любил приключенческие книги, я их прожил и пережил.
Я подарил их своему сыну когда-то в Лондоне, и он мне открыл глаза на то, что эти приключенческие тексты теперь крайне неуместны, поскольку они империалистические. Поэтому-то они в наши дни в ссылке: стоят на верхней полке в книжной лавке в Лондоне, как порно-журналы стоят на самом верху в киосках, чтобы дети не дотянулись.
Что осталось от моей любви к приключенческим романам? Чувство риска —«идти на скалу». И поскольку я дорожу этим чувством, я готов пожертвовать вниманием читателя, привыкшего к устоявшимся жанрам. Это значит, что я завоёвываю только тех читателей, кто когда-то любил трюмы и палубы, баки и юты.
Из них Сабатини был самым любимым?
— Нет, их было много. Я очень много читал. Я прочел всю приключенческую литературу, кстати, и украинскую.
Я помню «Прекрасні катастрофі» Смолича. Благодаря ему я выучил украинский язык. Да, в школе были уроки украинского. Но мне хотелось читать и было все равно, на каком языке. Я читал простые английские тексты, а украинские сам Бог велел. Я помню, что были такие писатели-двойники. Например, Беляев, советский писатель, писавший по-русски. А в украинской литературе был Мыкола Трублаини. Приключенческие книги – это трэш-литература, тем не менее, по касательной это было огромное обретение: герои романов искали клады и сокровища. Я тоже искал и находил новый язык и слова. Я помню, как мучился поначалу. Я не понимал некоторые украинские слова и ленился искать их в словаре. Потом перестал лениться. Я помню, что не мог понять, что имеет в виду украинский герой приключенческого романа, когда говорит «ви маєте рацію» («Вы правы» — прим. ред.) — я был уверен, что речь идет о каких-то шпионах. Потом слова мне раскрылись, — я полюбил этот язык, и язык ответил мне взаимностью.
В Черновцах я открыл феномен языков. Там говорили на разных языках. Оказалось, что моя мать родом из Харькова, мой отец родом из Одессы, и оказалось, что они говорят еще на каких-то языках, кроме русского. Для ребенка это было оглушительное открытие. Я вдруг услышал, как моя мать на рынке торгуется по-украински, потом оказалось, что мой отец работает в украинской газете, то есть он свободно пишет по-украински. Приходили домой его коллеги-украинцы, и они говорили по-украински, а потом оказалось, что с соседями мой отец говорил на идише, прекрасно говорил.
Есть филологическое осмысление языков. А есть чувство языка, которое дается тебе благодаря детскому опыту.
Есть писательское, зрелое понимание языков: я понимаю, что я делаю с языком. А в детстве это было просто дано. Большое счастье, большая удача вырасти на сквозняке лингв. Я вырос на этом сквозняке, и моя «простуда» – большая удача. Это осталось при мне, — ощущение ветерка, сквозняка лингв.
Когда ты читаешь по-украински, читаешь глазами Велимира Хлебникова, то понимаешь связь архаики и современного языка. Эти корни, морфемы, изумительные падежные окончания, которые вымерли, например, в английском. Это как выбор прекрасных вин, одно другого лучше, и ты думаешь, какое же выбрать… Который час? На закате солнце слабеет, наверно, надо выпить rose, потому что так можно «поправить» день, продлить жизнь дня. Ты открываешь сундук с языковыми сокровищами, выбираешь в зависимости от ландшафта, который ты описываешь, от времени дня, или от времени года, — выбираешь то или иное слово: если на дворе осень, значит слово должно быть душистым, должно быть по-осеннему спелым. А если это зима, и лужи на дворе покрыты льдом, то слова помогают тебе не поскользнуться.
Я в молодости любил Хлебникова и придумал слово — «землесозверие». Оно включает в себя людей и языки, краски и запахи. Вот на этом «землесозверии» я живу. И одновременно вижу себя со стороны: так древние греки увидели тексты, как литературу.
Кем на этом сквозняке вы себя чувствовали?
— Дело в том, что мой отец был журналист. Если бы мой отец был столяр или золотарь…Не случайно же возникли гильдии и цехи в средневековье и передавались навыки и ремесла из поколения в поколение.
Отец всегда писал. Я помню: он писал спиной. Я видел его спину, я знал — писательство делалось спиной. И я тоже начал писать спиной. Потом я перестал писать, эмоций было много, но сказать было нечего. Потом я лет в 16-17 начал писать стихи. Я читаю их сейчас, они мне нравятся по одной простой причине — в них нет никакой сердечности, никакой искренности, никаких эмоций, — это настоящая ремесленная школа, стихи, в которых я, молодой человек, склонившийся над бумагой, отождествлял себя с окружающим миром: «сентябрь болел желтухой, сентябрь болел ветрянкой». Я уже в юности искал образы, то есть я понимал, инстинктивно понимал уже в юности, что искренность, сердечность, задушевность, никакого отношения к ремеслу не имеют. Вот мои юношеские стихи: «И молнии в ночи полет наискосок / был противоречив, как поцелуй в висок». Мне не стыдно цитировать свои юношеские стихи, потому что это подражательные стихи, это моё ремесленное училище. Извержение всепоглощающих эмоций – это для графоманов. Я не верю в сверхзадачи. Сопоставление, сталкивание мифологических и христианских образов, христианские парадигмы, — это мне глубоко чуждо. Я допускаю, что кому-то это близко, но это не род моих занятий. Кольридж говорил, что поэзия – это лучшие слова в лучшем порядке, а я говорю: нет, это худшие слова в худшем порядке, но все равно мы оба говорим про слова, и как ими распоряжаться.
Оказалось, что этого мало, и читатель хочет большего, читатель хочет объяснений, потому что в большинстве своем люди остались инфантильными, они любят космические образы.
Я был маньяком кино в детстве. Я знал про кино всё, я знал все пять кинотеатров в городе, знал каждое кресло в каждом кинозале. В 8 утра я стоял в очереди за билетом на «Графа Монте-Кристо» или «Фантомаса». Я помню, я, мальчик, стою в очереди, а кругом взрослые. Это значит, большинство людей инфантильные, не в смысле поступков, не в смысле проживания жизни. Художественный вкус большинства людей остается инфантильным. Они до сих пор стоят в очереди за билетами на приключенческие фильмы.
Как этот мальчик, который довольно рано ощутил поэзию как ремесло, стал диссидентом?
—Я не очень люблю этот период своей жизни. Надо смотреть на себя со стороны, чтобы назвать себя диссидентом. О том, что я диссидент мне сказали на допросе в КГБ: ну, раз вы сказали, значит вам виднее, вы же власть.
Разве нормальный человек станет называть себя отщепенцем? Почему я отщепенец? А не они, сидящие за столом в своем кабинете?
Я был просто молодым писателем, я любил книги, мне было наплевать, что там запрещено, что не запрещено. И конфликт начался. Это был конфликт писателя с властью, поскольку в те времена государство монополизировало всё, включая идеологию, искусство, науку, спорт. Поэтому конфликт был абсолютно естественным. Речь шла о книгах, которые были запрещены, самиздат, тамиздат, естественно, я делился ими с друзьями. Я бывал в Москве у поэта Давида Самойлова и привозил от него запрещённые книги и рукописи. В Киеве тоже был свой рассадник самиздата. Это не было борьбой с режимом, просто молодой писатель вошел в конфликт с государством, которое претендует на монополию на все, включая язык и поэзию.

Мысленное возвращение, в Черновцы вашего детства… эта вами тема исчерпана?
— Как литературная тема, по-видимому, да. Но кто знает. Мы ведь живем на батарейках. Сироты любят душ, они долго принимают душ, потому что он замещает родительскую ласку. А я наоборот вырос в любви, на солнечной почве Буковины, Украины, на винограде, на абрикосах, на белом наливе, это моя солнечная батарейка, она до сих пор во мне. У меня чувственное отношение к языку благодаря этой почве. Я жил в краю, который входил в состав империй, Османской, потом Австро-Венгерской, но всегда у этого края был выход к Средиземному морю. У Румынии, Советского Союза, а теперь у Украины тоже был и остался выход к Черному морю, а Черное море – часть бассейна Средиземного моря, его бухта. Я вижу себя на этой карте человеком средиземноморской культуры, человеком, для которого чувственное ощущение слова не просто существенно, но жизненно необходимо. Так что я периферийный писатель в литературе, в которой работаю. (Белинский называл литературу современников «чахоточной»). Но это подвижно. Культура подвижна, текуча, она дрейфует, этим дрейфом она живет. Так что поживем, но не увидим, будущее — не покажет, будущее всё затемнит. Тем не менее, Надежда Мандельштам умирает последней.
P.S. Дорогая Вика, спасибо, что прислали мне распечатку интервью. Я внёс незначительные правки и с благодарностью возвращаю Вам отредактированный текст. Теперь это рассказ в форме интервью. А значит, в нём нем нет ни слова правды. И в этом, полагаю, его достоинство, а не изъян. Правда – тема и цель писателей, противостоящих государствам, которые присваивают правду и манипулируют ею. Я уже давно живу в другом мире, и решаю задачи посложней. Несколько тысяч лет назад люди придали смысл звёздному хаосу, вообразили в ночном небе фигуры в виде треугольников, цилиндров, трапеций. Они дали имена этим фигурам: Рыбы, Медведицы, Пса, Мухи, Ящерицы, Райской Птицы, Пегаса. Созвездия – это выдумка, фантазия, но разве воображение с его закоулками, тропинками, тупиками – это неправда? Разве оно не входит в состав человеческой жизни? В состав моей жизни – точно входит.
Текст: Вика Федорина