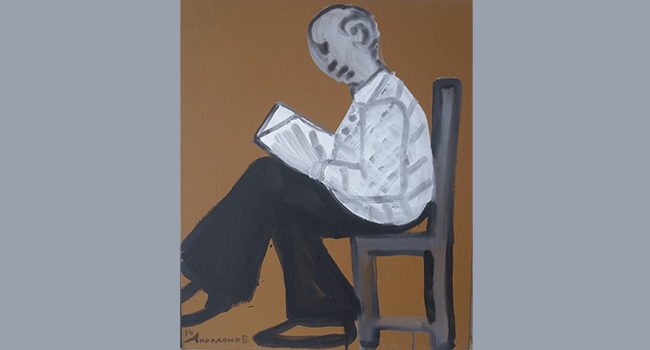21 июня 1905 года родился французский философ Жан-Поль Сартр. Его вспоминает философ Александр Пятигорский.
Какие только удивительные вещи не вытворяет с нами память! Через одиннадцать лет после смерти главного ветерана французского экзистенциализма и чемпиона левого интеллектуализма пятидесятых- шестидесятых годов Сартра один из опять же главных интеллектуалов современной Англии Джордж Стейнер спрашивает: «А что же осталось от Сартра и его философии?» И сам отвечает в своем огромном обзоре сартрианы последних лет: «Да в сущности ничего, кроме нескольких сот страниц отменной французской прозы, что само по себе немало, и уже расплывающегося в предвечерних сумерках XX века самообраза метущегося и страдающего философа и писателя». Самообраз всегда для другого; для других создание и культивирование автором собственного образа лишает его способности к реальному самосознанию, к рефлексии над своим мышлением и творчеством. Писателю это еще может сойти; философу — никогда. Рефлексия самосознания всегда направлена на меня как я есть. Самообраз — это как меня увидят другие. Поговорим об отчаянии философа.
Джордж Стейнер серьезно полагает, что главное условие сартровского отчаяния — это его глубокая и с огромным трудом скрываемая буржуазность, которую он всю жизнь тщетно пытался то подавить, то замаскировать: скрыть под маской революционной левизны, философского радикализма и крайнего антиамериканизма. В этом ему положительно не везло. Что бы Сартр ни делал, ни говорил и ни писал, его категорически не трогали. Более того, ему даже не угрожали. И так при всех режимах, от Даладье до Жискара д’Эстена. Даже немцы и петэновцы во время оккупации его не тронули. При Четвертой республике он превратился в официально разрешенного революционера, хуже того — в признанный всеми режимами подрывной элемент. Во время оккупации он опубликовал «Бытие и ничто», свою единственную истинно философскую работу, где он с настоящей откровенностью философа говорил о своем и о чужом как одном, философа. Потом он признался, что именно это страшное время было временем его максимального философского взлета. Затем в превосходной пьесе «Грязные руки» он обосрал Сопротивление, коммунистов в первую очередь; за дело, по-видимому.
Я не думаю, чтобы все говорило о какой-то особой его буржуазности. Скорее, это интуитивная реакция не рефлексирующего мыслителя (рефлексирующему-то вообще плевать, у кого чистые руки, а у кого грязные) на свою будущую ситуацию. То есть Сартр — писатель с чистыми руками предвосхитил Сартра — выразителя общественной тенденции с грязными. Позднее, поддерживая левый накал модных французских интеллектуалов и упорно оправдывая уже тогда давно скомпрометированные советский и китайский режимы, Сартр тем не менее никогда не решался связать себя лично ни с одним из радикальных движений во Франции конца шестидесятых и начала семидесятых годов. Эту позицию он пытался объяснить диалектикой ситуации философа в своих знаменитых «Диалектических интервью». Но дело, конечно, не в этом, а в том, что его время кончилось фактически уже в конце пятидесятых, — хотя он этого не заметил. А должен был бы, если бы реализовал в себе единство философа с его философией, каковой бы последняя ни была.
Итак, Стейнер спрашивает, что осталось от Сартра. Вопрос неправильный. Правильно было бы спросить, что осталось от времени, которое Сартр выражал и с которым он себя отождествлял, даже перестав быть настоящим философом. Вообще-то, настоящий философ ничего не выражает и ни с чем себя не отождествляет. Ответ — мой, а не Стейнера. Нет, ничего не осталось. Опыт этого времени оказался таким же нереальным, как и любые попытки сделать его реальным. «А искусство, литература, кино?» — спросит Стейнер. Этим я здесь не занимаюсь. Расстанемся пока с Сартром.