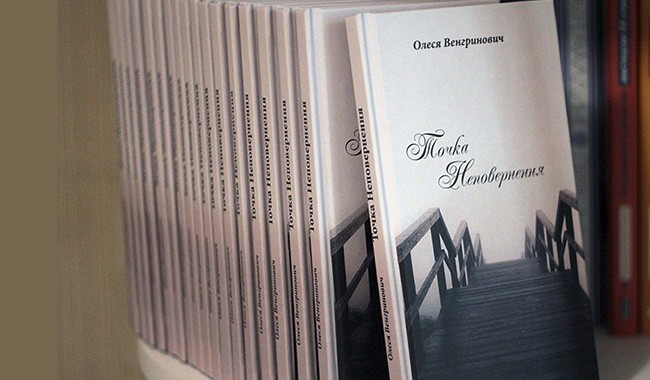В начале июня в Полтаве прошел Второй Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava. Три дня украинские и шведские поэты и прозаики читали произведения — свои и друг друга. Kyiv Daily был гостем фестиваля, и поговорил с одним из его участников, легендарным шведским поэтом Гуннаром Хардингом.
«Легендарный поэт» написано мной не случайно: джазовый музыкант и художник в прошлом, Гуннар Хардинг в последние полвека пишет стихи. За них, и за поэтические переводы «старомодных» модернистов (Аполлинера, Блеза Сандрара и Макса Жакоба) его считают одним из выдающихся поэтов Швеции.
То, что вы были музыкантом, повлияло на вас — поэта?
— Конечно повлияло. Сейчас, когда я оглядываюсь на то, чем занимался раньше, а раньше я в основном играл классический Нью-Орлеанский джаз… Знаете, какой рисунок ритмо-мелодический у этих композиций?
Все музыканты начинают играть одну мелодию, дальше начинается импровизация, соло каждого инструмента, и в конце все снова играют ту же мелодию, но только на высоких тонах, фортиссимо.
Когда я был моложе, руководствовался этим же принципом и в своей поэтике — начинал с какой-то основной темы, дальше шла часть, в которой была определенная импровизация, и в конце я возвращался к теме, с которой все начиналось. Эта тема должна была быть связана и с импровизацией, чтобы все было связано в одно художественное целое.
Вам кажется, что это достаточно хорошее, логичное объяснение, но на самом деле, когда я садился писать, у меня в голове никогда не было какой-то четкой цели: сейчас я буду конструировать поэзию так же, как я конструирую свою музыку. Это происходило не нарочно.
Обычное же влияние музыки заключается в том, что она приводит нас в определенное настроение. Когда мы говорим о влиянии музыки, это скорее разговор не о том, какова техника, но о том, в каком настроении был поэт.
И конечно, еще я писал стихи о музыкантах, и о композиторах, и о самой музыке.
Кто из великих поэтов, кроме Аполлинера и Шелли, которых вы безусловно любите, на вас повлиял?
— Конечно же, на первом месте стоит Аполлинер, когда я учился в художественной школе, пытался при помощи своей поэзии описать картину, это был освобождающий опыт для меня.
Тумас Транстрёмер нобелевский лауреат, к сожалению, два года назад он умер. Когда я был молодым, читал его поэзию, и меня очень впечатляли образы, которые он использовал. Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, вижу, что он был один из ориентиров, на которые я опирался.
Позже мы с ним подружились, стали общаться… и сейчас, перед тем, как я должен был летать в Киев, на фестиваль Меридиан Полтава, я получил письмо, от жены Тумаса, Моники, которая приглашала меня отпраздновать свой восьмидесятый день рождения.
И нужно еще отметить важный нюанс: когда ты моложе, и находишь тех людей, которые на тебя влияют, скорее это говорит о тебе самом, о том, какой человек ты сам, нежели о тех поэтах, которые на тебя влияют.

А когда становишься старше, много повидал, пережил, был знаком со многими людьми, другие поэты на тебя влияют уже не так, скорее всего, это сильное влияние происходит в молодости, когда ты читаешь определенное стихотворение, и прямо чувствуешь, как физически переходишь в другое состояние, у тебя начинается лихорадка.
Сейчас я перевожу классиков, поэтов, которые писали на латыни — римских поэтов, тех, труды которых я изучал, когда был школьником. Меня поражает в поэзии Горация то, насколько этот римский поэт дисциплинирован, его ритмо-мелодический рисунок, длина фразы, ударение…. им соблюдались все основные правила.
Я еще вернусь к ваши переводам, но сначала хотела бы спросить, как думаете, на кого из молодых поэтов повлияли вы? И чувствуете ли вы это влияние?
— Я всегда старался помогать молодым, тем, кто лет на 10 был моложе, особенно американским поэтам. Наверное, чувствую. Да, определенно.
Следующий вопрос будет о переводе, переводе модернистов вообще, и в частности Маяковского.
— Это были переводы его ранних стихотворений, Маяковский был очень важен для шведской литературы. Поскольку я по-русски не говорю, я работал над переводом вместе с экспертом-славистом Бенгтом Янгфельдтом. Маяковский был суперпопулярен, когда мы сделали перевод, издатели очень обрадовались, они хорошо на этом заработали. Наш переводной Маяковский, книжка в мягкой обложке, разошлась тиражом где-то 200 тысяч экземпляров. Позже мы были в Москве, ездили в гости к Лиле Брик, она подарила мне свою фотографию, которую снял Маяковский, она на ней в купальнике.
Известно, что вы служили в королевской шведской кавалерии, что вам дала служба?
— Служить мне не очень понравилось, но как-раз во время службы я начал писать стихи. До этого я больше работал как художник. Но, когда служишь в кавалерии, рисовать картины несколько проблематично, а что касается стихов… ночью, после отбоя, одной из обязанностей было охранять стойла. Таким образом, было очень много времени для того, чтобы подумать. Не было возможности рисовать, но появилась возможность сочинять стихи. Конечно, эти стихи были очень, очень сентиментальные. Романтичные, традиционные, они вообще никак не отражали мою службу в армии.
В моей книге есть раздел, который посвящен стихам королевского драгуна. Я служил в северной части Швеции, там не так много проложено каких-то там путей, коммуникаций, дорог, поэтому мы постоянно ездили по одним и тем же дорогам, видели один и тот же ландшафт, одни и те же пейзажи, таким образом, в стихах тех лет очевидно влияние сентиментализма.
Через два года, после того, как я закончил службу, расформировали то военное подразделение, в котором я служил, стойла остались. Они сохранились как туристический объект, теперь в Стокгольме туда водят экскурсии.
Что для вас, шведского поэта, означает поле Полтавской битвы?
— Когда мне было 12 лет, я читал очень много книг по истории Швеции. После войны казалось, что начался новый, романтический период возвращения к истории Швеции, и книги, которые я читал, были для детского и юношеского возраста, такие — адаптированные.
В то время о Полтаве не говорили как о самой большой катастрофе для военных сил Швеции, а сейчас об этом уже говорят. Петер Энглунд написал «Полтаву» («Полтава: Рассказ о гибели одной армии»), и она стала бестселлером. Очень странно, что эта книга стала бестселлером, может сошлись обстоятельства, последствия убийства министра Улофа Пальме, это была еще одна национальная трагедия, и люди так эмоционально отреагировали. Потому что обычно в таком ключе о Полтавской битве в Швеции не говорили. Сейчас разворачивается ситуация, в которой Карл XII стал героем для праворадикальных политических сил, они его используют в своей агитации. На самом деле, он убежденным Шведским националистом не был, у него своя история.
Что для вас сейчас означает быть здесь, участвовать в поэтических чтениях, читать стихи украинских поэтов, слышать, как украинские поэты читают ваши стихи?
— Это очень многое для меня значит. Если в контексте шведского языка мы используем слово Полтава, оно окрашено в пессимистические, трагические тона. Поэтому находится здесь мне, с одной стороны, несколько странно. Похоже по ощущениям, на присутствие при разговорах о битве при Ватерлоо. О Ватерлоо всегда говорят, как о большом поражении, но при этом мы понимаем, что поражение было только для Наполеона. Битва при Полтаве — это было начало падения Шведского королевства, с другой стороны, если посмотреть на это из наших дней, наверное, это было к лучшему.
Знаете ли вы украинских поэтов?
— Уже знаю, сегодня я слушал трех украинских поэтов, и мне очень понравилось то, что я услышал. Катерина Калитко, Игорь Померанцев, сегодня я читал его переводы.
Вам нравится как звучат ваши стихи по-украински?
— Да! Мне нравится то, что они такие же как у меня — не рифмованные. Не так давно вышла антология шведской поэзии на русском языке, один из составителей живет в Швеции, но родился в России. В моих стихах нет рифмы, но, когда их перевели для этой антологии на русский язык, сделали перевод рифмованный. И я спросил составителя: «Зачем ты это сделал?!» «Реальность, она рифмуется» — ответил он мне. Но в реальности мои стихи и без этого рифмуются. Допустим (сочиняет на ходу): «Я родился в Украине, в это время флаг был жовто-блакитний, теперь я живу в Швеции, и то же самое — жовто-блакитний флаг». — Разве это не рифма, не перекличка?