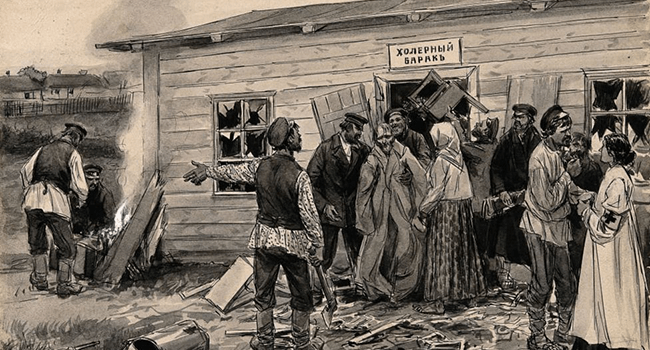«Мой Киев, мои друзья и истории» — разговоры в жанре «Портреты и случаи» мы ведем с художником Матвеем Вайсбергом в кафе рядом с нашими домами, — заказываем кофе, Матвей рассказывает. Может быть, из этих разговоров получится книга. Новая история — не история даже, а профессиональный манифест. Художник Матвей Вайсберг — (молодым) художникам.
Я осознал себя художником очень рано. С детства у меня была невероятная тяга всегда и везде рисовать — в книжках, на стенах, где угодно. Я рисовал, как и все мальчишки, — играя. Мама меня дразнила «яичко сейчас снесешь» — когда мы гоняли в войнушки, я тоже играл, но и рисовал, и издавал характерные звуки, она считала, что моя война была похожа на жизнь наседки, я очень обижался.
Потом мама поступила в Художественный институт, дома появились книжки по искусству, я довольно быстро начал рисовать как взрослый («как» — важное слово) — я начал перерисовывать с книжек, я вдруг открыл для себя миры — мир всемирной истории искусства, мир русского искусства, мир истории украинского искусства, — мама училась, и предпочитала все книжки иметь дома под рукой. Поэтому, когда меня отдали на скрипку, а я рисовал, — для меня это было странное приключение с непонятным исходом. Через два года я бросил занятия музыкой, и из-за этого травматического музыкального опыта лет до двадцати никакую музыку слушать не хотел (не считая Галича, Окуджаву, Высоцкого, но это все-таки другая история, про слова, не музыку).
Я помню свои первые открытия, помню как вдруг нарисовал лошадку. Помню, нарисовал, смотрю на нее, чувствую неправду. Оказалось, что задние коленки у нее вперед, а надо бы назад. Когда я сам до этого дойдя, нарисовал их назад — это было открытие правды в искусстве.
Потом, когда я начал рисовать «как взрослый» — мама показывала мои рисунки художникам, ей говорили: «Ну не может быть, чтобы мальчик, не зная, как устроено копыто лошади, рисовал его таким образом» — а я рассматривал копыта на конных памятниках.
А потом случилось знаменательное — я даже не знал о существовании художественной школы, спокойно учился в своей 135-й, здесь рядом, на Коцюбинского, и ходил в художественную студию в Дом пионеров. У нас была замечательная преподавательница Инна Васильевна, у меня о ней очень теплые воспоминания, — и тут мама решила, что мне надо поступать в Республиканскую художественную школу. У моих родителей был товарищ, Дима Даревский, он меня и готовил к поступлению. Я поступил в РХСШ, мне было 11 лет, с этого момента началась моя жизнь в искусстве. Я не преувеличиваю — это был отправной момент, это было величайшее счастье.
С тех пор, я был счастлив многократно и имел несколько симптоматических элементов счастья. Первый из которых — просто то, что я занимаюсь именно этим делом. Во-первых, потому что мне оно нравится. Во-вторых, оно меня кормит. Поэтому, когда я встречаюсь с молодыми художниками, первое, что говорю им: «Вам никто ничего не обещал. Вы пришли сюда за радость и за счастье заниматься этим делом. Просто — за счастье».
Я не знаю, как это счастье описать. Может быть, как ни странно, словами Черномырдина: «никогда не было, и вот опять» — вот стоит белый холст, на нем надо писать. Ничего не было, и все изменилось, и мир стал чуточку иной. Это как выйти из пункта А в неизвестном направлении и без лоций. Наверное, мы можем так говорить о любой профессии, но об этой — особенно.
С одной стороны она похожа на игру. Но это игра, которая приводит к неожиданным результатам. И лифта в ней нет, надо пройти лестницу. Иногда перескочить через одну ступеньку. Иногда покатиться по многим ступенькам назад.
Что я добавил бы еще? Как говорил мой друг Ваган (Ваган Ананян, художник) — «выигрывает тот, кто много работает».
И, особенно в последнее время, я все чаще вспоминаю нашего с Ваганом друга, Сашу Кноппа, который говорил о том, что когда ты уже стал кем-то, тебе не обязательно… в таких случаях я рассказываю байку про Анатоля Франса и стенографистку. Знаешь ее? К Анатолю Франсу пришла стенографистка и говорит: «я записываю сон скоростью 120 слов в минуту». «Хорошо, — отвечает ей Анатоль Франс, — но где я возьму столько слов?» Так вот у меня совершенно очевидно не всегда есть столько слов, и я перестал переживать по этому поводу. Хорошо конечно жить так, чтобы «ни дня без строчки», и это, наверное, счастье. Но и простой по-своему бывает необходим и хорош и полезен. Но это конечно же, не универсальные правила, и они не на всех распространяются, многое зависит от психотипа, характера…от очень многих причин. Славик Шерешевский работает с шести утра и может это делать до восьми вечера. И это его большое счастье. Кто-то работает более дискретно.
В молодости хорошо играть в количество (меня этому научил Миша Рытяев, — кстати, не всегда учат формальные учителя, учит жизнь и опыт, и друзья), он говорил: «Пусть у тебя будет ссс-с-сначала будет дддд-двадать работ. Потом пп-п-пятьдесят».
Это правило работает наглядно — в юности может казаться, что у тебя много работ, ты их приносишь, показываешь, и оказывается что их всего 15. А что такое в юности 15 работ?! Смешно, ей Богу. На каком-то этапе расписаться — это очень важно. Это не совсем то исполнительское мастерство, каким оно выглядит в Музыке. По-моему Ойстрах говорил: «если я не играю неделю — это замечу только я, если две — это заметят все», в работе художника все не совсем так, иногда даже надо идти вопреки этой моторике. Я терпеть не могу ловкости. Сильно гладко — о другом, не о живописи. Кстати, у РХСШовцев плюс минус моего возраста — простые и похожие подписи. В них нет цыганщины.
Фото: Мар’яна Ангелова