В издательстве «Дух и Литера» совсем недавно вышел сборник мемуарной прозы публициста Игоря Гольфмана. 18 января — день памяти журналиста, правозащитника и диссидента Сергея Набоки, с разрешения издательства и автора Kyiv Daily публикует рассказ, который так и называется, «Сережа».
Серёжа
Памяти Сергея Набоки
Село Райковцы, несмотря на название, гиблое место, настоящая дыра. Расположенное вдали от больших дорог, затерянное где-то в дебрях Волынско-Подольской возвышенности, оно круглый год продувается всеми ветрами. Зимы здесь лютей сибирских, лето дождливое, а осень с весною сырые и мрачные. Ничего более соответствующего здешнему колориту, чем колония общего режима, придумать невозможно. Зона абсолютно органично вписалась в это место, стала центром, вокруг которого складывались все хоть сколько-нибудь значимые для здешней жизни события.
Високосный 1980 год был годом Московской Олимпиады и смерти Владимира Высоцкого. Время накала «холодной войны» и пик брежневского застоя. Моя страна отправляла своих сыновей тысячами в афганскую мясорубку, а в приделах своих границ самозабвенно душила диссидентов и всяческое инакомыслие. «Железный занавес» обрастал новыми слоями брони: во множестве появились эмигранты-отказники, да и на Олимпийские игры из-за бойкота приехали только представители «соцлагеря», сильно снизив значимость самого мероприятия.
Мне исполнилось двадцать лет. Прошло уже три года, как умер отец, и я, уехав от матери и брата, жил самостоятельно. Успешно окончив техникум, поступил на заочное отделение в институт и мечтал исключительно об эмиграции. Разговоры родителей о необходимости выезда из страны я слышал с раннего детства, поэтому уже к юности был законченным «западником» и ярым антисоветчиком. Сейчас, спустя тридцать лет с лихвой, я с оторопью осознаю, какие именно ветра надували парус моей души в те годы. Иногда мне кажется даже, что это вообще был не я.
Как бы то ни было, постоянное хождение по грани закономерно привело меня в тюрьму, «на галеры» на долгие годы. В сентябре 1980 года я был задержан во Львове сотрудниками КГБ с небольшой суммой долларов в кармане. В результате – суд и четыре года колонии общего режима за «попытку нарушения правил валютных операций». Я помню, суд проходил в помещении, где когда-то судили убийцу Ярослава Галана, и запомнил лица судьи и народных заседателей. Вообще никому с фамилиями типа Гольфман, не рекомендую быть осужденным Львовским судом – непременно получите максимум предусмотренного наказания… За себя, за дедов и прадедов. Но мне тогдашнему многое было нипочём.
Итак, зимой 1981 года я был этапирован для отбывания наказания в село Райковцы, в колонию №78. Ещё задолго до олимпийского лета 1980 года советское государство, в рамках подготовки к большому международному событию, проводило тотальную зачистку в городах, где должны были пройти игры. Тунеядцы, фарцовщики, бродяги и проститутки попали тогда под жесточайший милицейский пресс. Тюрьмы и лагеря были забиты до отказа персонажами без постоянного места жительства, злостными неплательщиками алиментов и прочими «антиобщественными элементами». Сроки им давали – год, от силы полтора, они даже не успевали стать полноценными зеками. Покуда проходило следствие, потом суд, за ним утверждение приговора, дальше этап… Приехал в зону, а уже пора готовиться к освобождению. Словом, три четверти контингента 78-й колонии на момент моего прибытия составляли именно такие типы, которым, на мой взгляд, в тюрьме вообще делать нечего. Я со своими четырьмя годами выглядел как настоящий «терпигорец».
Освоился я довольно быстро. На работу меня распределили в гальванический цех, место, считающееся «козырным» в сравнении с другими работами в производственной части зоны, – единственный раз в жизни помог диплом Индустриального техникума. Надо сказать, идея «исправления трудом» в этой колонии обрела необычайно жестокие формы. Промзона представляла собой филиал какого-то комбайнового завода. Тут выполнялись самые грязные, тяжёлые и малооплачиваемые производственные процессы. Жутко выглядели бригады заключенных, выходящие после работы из литейного, покрасочного или кузнечно-прессового цехов, особенно зимой в ночную смену. Людей настолько измученных трудом я не встречал даже позднее на Краслаговском лесоповале.
Все осуждённые в колонии были распределены по отрядам, человек по сто пятьдесят – двести. По какому принципу проходило распределение, не знаю, может, по профессиональному, скорее – бессистемно. Но один отряд, №12, в который попал я, формировался исключительно из отбывающих наказание по статьям, курируемым КГБ, или по делам, возбуждённым тем же ведомством, что почти всегда совпадало. У нас в отряде было немало «узников совести»: деятелей различных запрещённых религиозных сект, отказников по убеждениям веры от армейской службы, валютчиков, клеветников на советскую власть и прочей неблагонадёжной публики.
Капитан – начальник отряда, являлся, как я понимаю, ещё и кагэбэшником, а потому воспитательная работа, которую он с нами вёл, сильно отличалась от той, что проводилась в других отрядах. Например, если в результате идеологической обработки кто-нибудь из отказников от армии подписывал письменное раскаяние, его сразу же освобождали, но позже всё равно призывали на службу.
При мне таких случаев не было. В большинстве своём верующие сидельцы демонстрировали невероятную стойкость духа и тела. Я помню, как один, кажется, «пятидесятник» ни разу не ел в столовой еду, приготовленную со свининой, то есть практически ничего не ел. Его до тех пор сажали в изолятор, пока полуживого не увезли в больницу. Ещё несколько «субботников» отказывались выходить на работу в субботние дни. Их тоже администрация мучила-мучила и отправила досиживать на тюремный режим.
***
Киевлян в моём отряде не было. В других имелось несколько человек, но поговорить с земляками практически не представлялось возможным – вся территория колонии была разбита на локальные участки. Даже живущие в одном бараке, но в разных отрядах, были разделены, как львы в цирке, металлическим решетчатым забором. Помню, отец с сыном из Луцка, одновременно отбывающие свои срокá в Райковцах, будучи в разных отрядах, месяцами могли не видеться, пока случайно не встречались в клубе на просмотре какого-нибудь фильма или концерта местечковых гастролёров.
Словом, особо сблизиться в первое время в лагере мне ни с кем не удавалось. Всё свободное время я проводил в библиотеке, где, к моей радости, имелось неплохое собрание периодики в самодельных подшивках. Помню подборки журналов за несколько десятилетий – «Иностранная литература», «Юность», «Наш современник» и прочие. Позже я подписался и стал получать очень мною любимый журнал «Химия и жизнь», где печатались чудесные вещи Кира Булычёва, Рэя Бредбери и других авторов, чьи книги в то время найти было нелегко.
Будущее меня волновало мало. Я почему-то был убеждён, что ни при каких условиях после освобождения не останусь жить в Союзе. Мне, в сущности, было безразлично, куда я конкретно уеду, в Израиль или Штаты – неважно, важно, что отсюда. Отношения с семьёй к тому времени у меня полностью прекратились. Понимая, что любое напоминание обо мне причинит и так тяжело больной маме лишние страдания, я не писал писем домой, никого ни о чём не просил, ни на кого не рассчитывал. Надо сказать, особого душевного надлома из-за случившейся судимости я не ощущал. Юношеский максимализм, замешанный на гордыни, укоренил во мне убеждённость в собственной непобедимости: знания и умения, образование и воспитание, плюс кое-какой жизненный опыт и тогда ещё отменное физическое здоровье – вывезут, казалось мне, как бы ни складывались обстоятельства.
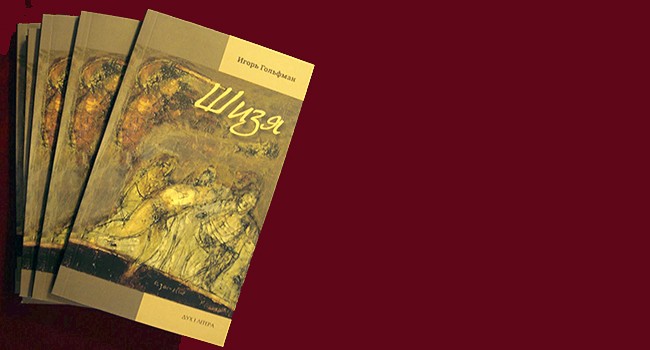
Я никогда не скрывал и не стеснялся своего еврейства. Меня совершенно не беспокоили «черты былой оседлости» на моём лице, более того, родители учили меня всегда гордо нести это знамя. В то же время любые проявления национализма в нашей семье жёстко пресекались. Отец неоднократно объяснял мне, что на земле есть люди и нелюди – и всё, а кровный аспект тут ни при чём. Он говорил: «Тебе никогда не дадут забыть, кто ты, поэтому помни об этом всегда сам и живи правильно». Он приучал меня к самообладанию и самоконтролю, к умению не впадать в гнев и оценивать поступки и события не только с собственной точки зрения, но и с позиции других людей. A мама, будучи сама человеком в высшей степени скромным и деликатным, убеждала меня, что смирение и кротость, отзывчивость и милосердие – это ключи к совершенствованию характера и главные свойства по-настоящему сильной личности. Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что мои родители, не являясь религиозными людьми, по сути, открывали мне глаза на библейские истины.
В арестантской среде, в лагерной иерархии вопрос национальной принадлежности – далеко не первостепенный. По крайней мере, мне за все годы никто на мою еврейскую принадлежность не указал. Представители администрации, сотрудники колонии или этапный конвой в те годы тоже побаивались открыто высказываться на этот счёт, хотя между собой, за глаза, часто употребляли характеристики заключенных типа: «тупой молдаванин», «хитрый жид» или «вонючий цыган».
***
В Райковцах на зоне работал пожилой прапорщик по фамилии Врона. На тот момент он прослужил в колонии больше тридцати лет, то есть фактически все эти годы «просидел», что, конечно, не могло не сказаться на его психике и мировосприятии. Жил он в селе неподалеку от зоны, был женат и имел шестерых детей. Вот этот Врона, единственный, кто часто называл меня «жидок», что, впрочем, никогда не вызывало во мне обиды. Вообще этот человек достоин отдельного рассказа. Но здесь мне хотелось бы рассказать одну связанную с ним историю, случившуюся на моих глазах.
Этот прапорщик, будучи очень бедным, не упускал возможности стащить из зоны домой всё, что может пригодиться в хозяйстве. Например, многие новоприбывшие в колонию осуждённые, переодевшись в лагерную одежду, свои старые «вольные» вещи сдавали в топку котельной, потому что этот хлам после тюрем и этапов назвать одеждой уже было невозможно. Так вот прапорщик Врона собирал эти тряпки в мешок и относил домой – вдруг детям чего сгодится. Иногда он выдавал посылки и бандероли, приходящие осужденным по почте из дому. До передачи адресату Врона вскрывал посылку, проверял содержимое на наличие запрещённых предметов и обязательно со словами: «Такого ще я не їв», откладывал себе несколько конфет или отрезал кусок копчёного сала.
В моём бараке жили два друга, оба из Кривого Рога и оба наркоманы. Каждый сидел за своё, но до тюрьмы они были с детских лет знакомы, вместе росли и вместе употребляли. Причём пристрастились оба к препарату с названием, кажется, «этаминал натрия», который между собой называли «бешенные». Это какой-то сильнейший барбитуратный галлюцинoген, перебор с дозой которого приводит к серьёзным последствиям.
Один из друзей освобождался на год раньше другого, и они условились, что тот на свободе подготовит и вышлет в зону посылку, которая как раз была положена оставшемуся, а в ней замаскирует эти самые «бешенные». Размельчённый препарат будет помещён в тесто, из которого приготовится домашнее печенье со строгим соблюдением дозировки – один коржик, разделённый на две части, – две дозы.
На день, когда пришла посылка, пришлась смена прапорщика Вроны. Получив заветную коробку, Витя, так звали оставшегося досиживать одного из криворожских друзей, пришел в барак белым, как мел. Его руки дрожали, когда он рассказывал о том, что Врона, проверяя его посылку, привычно отрезал кусок колбасы и «крысанул» штук пять коржиков. Я успокаивал Витю, уверяя, что посылок выдавалось в тот день много, и даже если чего и случится, то никто не разберется, у кого и чего Врона нахватал…
Через два часа в колонию прибыла скорая помощь и прапорщика Врону в смирительной рубашке увезли в Хмельницкую больницу. Оказывается, закончив выдачу посылок, он заварил кружку чая и сел пообедать чем бог послал. Через какое-то время с ним стали происходить необъяснимые метаморфозы: прапорщик Врона зачем-то разделся и в одних носках принялся с криками бегать по коридорам административного здания, где и был пойман санитарами и увезён в карете «скорой». Через пару дней по зоне пополз слух, что Врона умер. Но в итоге всё закончилось благополучно. Через три недели он появился на службе, правда несколько осунувшимся и испуганным.
Позже я его раз-другой спрашивал, когда он приносил ко мне в гальванику на оцинковку или хромирование что-нибудь вроде старых крыльев от мопеда, что же с ним тогда всё-таки случилось. Прапорщик Врона смущался и всякий раз отвечал: «Це якісь погані зеки хотіли мене травануть».
***
Этапный карантин в зоне – это такой барак, где содержатся до распределения по отрядам прибывшие в колонию для отбывания срока. Там их стригут, моют, переодевают в робу и используют на различных хозяйственных работах или уборке территории. Однажды зимой я прогуливался по своей «локалке» и наблюдал за несколькими этапниками, скребущими лопатами снег на центральной аллее зоны. Одного из них прапорщик Врона громко ругал за нерасторопность. На этого доходягу больно было смотреть: телогрейку ему выдали размеров на пять бóльшую, чем требовалось, и она, как боярская шуба заплеталась у него в ногах. Кирзовые сапоги ему тоже были велики, а зимней шапки-ушанки, видимо, ему вообще не хватило, и бедолага натянул на уши летнюю из хлопка. Под козырьком торчал длинный тонкий нос, на котором держались круглые очки, как у убитого недавно Джона Леннона. Мне этот замерзший, ссутуленный, тощий человек, то и дело отогревающий дыханием свои синие пальцы, напомнил беглого француза зимой 1812 года. Увидев меня за прутьями локалки, проходящий мимо прапорщик Врона, кивнув в сторону того зека, сказал: «Це, жидок, твій землячок».
– Эй, друг, ты откуда? – окликнул я.
– З Києва, – ответил тот по-украински.
Всё понятно, подумал я, опять кто-то из жителей областных районов выдаёт себя за киевлянина. В то время на украинском языке в Киеве говорили разве что колхозники на продуктовых рынках или туристы из канадской диаспоры.
Через несколько дней «доходягу» распределили в мой отряд. Я узнал, что его зовут Сергей Набока, и срок у него – три года. Оказалось, что он действительно киевлянин – до ареста жил в районе Березняков, у нас даже обнаружилось несколько общих знакомых. Сергей был старше меня на пять лет, он успел отслужить в армии и закончить факультет журналистики Киевского университета. Рассмотрев его повнимательней, я ужаснулся тому, насколько он был худым. Моясь в бане, Серёжа со своими тоненькими ручками и ножками напоминал какое-то насекомое вроде богомола. Сидя под следствием, он объявил и долго держал голодовку, много курил, нервничал и в итоге совсем отощал. Курил Серёжа столько, что концы указательного и среднего пальцев его правой руки приобрели густой коричневый цвет, будто он их постоянно мазал йодом.
Первое, что меня удивило, это украинский язык, на котором Набока говорил даже тогда, когда к нему обращались на русском. Это была позиция, возведённая им в принцип, которому он никогда не изменял. Конечно при этом он знал русский, и намного лучше тех, кто считал его своим родным языком.
Двуязычное общение нас никогда не смущало. Должен признаться – единственным и настоящим учителем украинского языка в моей жизни был Сергей Набока. Однажды он спросил меня:
– Як ти вважаєш, де була давньогрецька мудрість, ця славетна афінея, весь той час, коли древніх греків вже не було, а нові ще не з’явилися?
– Ну и где? – сразу сдался я.
– У грецькій мові. Мова і є душа народу, його мудрість та історія. Поки мова живе, є шанс на відтворення нації, – ответил Серёжа.
Мы как-то быстро подружились и до самого освобождения практически всё время проводили вместе. Зачем эта дружба была Набоке, считавшему себя украинским буржуазным националистом, о чём он сам не раз говорил, – не знаю. Конечно, я был начитан и склонен к интеллектуальному анализу и философствованию, но, по сути, тогда я был еврейским юношей – убеждённым космополитом, разум и сердце которого всецело были подчинены мечте об эмиграции. Где я, а где украинский патриотизм? Может быть, нас сблизила память одних улиц детства, наша общая любовь к Киеву, обострившаяся вдали от дома – наверное, но я отчётливо помню, как вначале знакомства поразился Серёжиному знанию творчества «Битлов». У него был отличный английский, и он знал наизусть все тексты песен и биографии музыкантов, что несколько диссонировало с его внешним обликом. Иногда мне удавалось добыть гитару, и мы с удовольствием музицировали, вспоминая битловский репертуар, чем вызывали порой недобрую реакцию у наших религиозных соседей по бараку.
Посадили Серёжу по 187-й статье за «клевету на советскую власть», свою вину он, естественно, не признал. Он рассказывал о своих подельниках, среди которых была и его будущая жена Инна, о листовках с призывами остановить агрессию в Афганистане, о написанном им манифесте «Перспективы заполнения духовного вакуума советского общества» и других литературных опытах, о контактах с диссидентами и Фондом Александра Солженицина. Мы шутили о том, что в общем совершенного Набокой хватило бы лет на тридцать. На суде, видно, по ошибке просто забыли к тройке нолик дописать. Впрочем, из его рассказов я знал, что в ходе следствия какой-то кэгэбэшник проникся к Серёже неожиданной симпатией и уничтожил часть улик, что изменило квалификацию и «отшило» более тяжёлую 62-ю статью.
До знакомства с Набокой я никогда в своей жизни не встречал людей, готовых отдать свою жизнь в борьбе за независимость Украины. До развала Союза и до обретения Украиной суверенитета было ещё лет десять. Предвидеть эти события тогда никто не мог, а Набока – мог, потому что свято верил в их неизбежность, ведь он лично принимал участие в демонтаже этой насквозь прогнившей системы.
Однажды в промзону за мной пришёл прапорщик Врона, чтобы препроводить в оперчасть. По дороге к вахтенному посту он доверительно сообщил мне, что приехал какой-то следователь из Киева, и я ломал голову, – с чего бы это вдруг. Оказалось, что в зону по своим делам прибыл столичный кагэбэшник. Узнав о моей дружбе с Набокой, он вместе с начальником оперчасти колонии решил склонить меня к доносительству. Им нужны были сведений об умонастроениях и намерениях Серёжи. Помню, я принял гордый вид и сообщил им, что с детства мечтал быть космонавтом, а не стукачом, после чего с матами и угрозами был изгнан из кабинета. Когда я вечером поведал Серёже об этом, он неожиданно для меня заметил:
– Оце ти даремно. Треба було погодитись, тоді б ми з ними в кицю та мишенят погрались.
В то время как мне уже сам вид людей в погонах был омерзителен, он готов был бороться с ними даже на их поле, играя в «кошки-мышки»…
Шло время. Примерно через год после появления Набоки в Райковцах к нему приехала мама. Им дали возможность двое суток побыть вместе в специальных комнатах для личных свиданий осужденных с родственниками. Ко мне никто приехать не мог, и я по-хорошему завидовал Серёже. Хотя, как я знал, отношения с матерью у них были довольно непростые, вернулся он в приподнятом настроении. Набока вообще всегда, невзирая на внешние обстоятельства, оставался весёлым ироничным человеком – вечно шутил, каламбурил и заразительно смеялся. Серёжа рассказал, что во время свидания к ним зашёл начальник нашего отряда, чтобы познакомиться и поговорить с матерью своего «воспитуемого». Набоку в этом время попросили «покурить» в коридоре. Через непродолжительное время дверь комнаты распахнулась. Начальник отряда с ошарашенным видом покинул комнату и стремительно удалился, даже не взглянув на курящего Серёжу. Оказалось, «отрядный» сказал Набокиной матери, что особых претензий к её сыну у него нет. Вот только две вещи его волнуют. Первое – хорошо бы Сергею признать свою вину по делу, тогда его гарантированно освободят досрочно, а второе – нехорошую дружбу завёл Набока с валютчиком, да к тому же ещё и евреем… Видно, этот болван решил, что если украинские националисты, значит, обязательно – антисемиты. В итоге, выслушав нелицеприятную тираду от Серёжиной мамы, был вынужден ретироваться.
В те годы мои познания в области истории были на уровне «хорошиста» киевской средней школы. Существовали, конечно, художественные произведения на историческую тематику, кроме того, имелись «ЖЗЛ», «Литпамятники» и «Академия». Но как всё это многотомье могло помочь мне разобраться тогда, например, в истинной истории Украины? Рассказать мне о том, что восстание и резня, учиненные в XVII веке Богданом Хмельницким были «национально-освободительным движением»? Или уверить меня в том, что присоединение в 1939 году Западно-Украинских земель было не оккупацией, а добровольным вхождением, «воссоединением семей»?
Пробелы в моих исторических знаниях взялся восполнять Сережа. Он много рассказывал, объяснял причинно-следственные связи и логику исторических событий. Только много позже, в девяностые годы, когда Украина стала независимой страной, и начали издаваться ранее запрещённые авторы, когда открылись архивы и стала писаться новая государственная история Украины, я понял, насколько знания Набоки в этой области были глубокими и точными.
Пришёл новый високосный 1984 год, год моего и Серёжиного освобождения из колонии. К тому времени уже успели умереть Брежнев и Андропов, оставалось несколько месяцев до начала эпохи Горбачёва. Но ещё продолжали гибнуть наши солдаты в Афганистане, тонули подлодки, падали самолёты. В Москве судили Елену Боннер и решили «алаверды» не посылать нашу сборную на Олимпиаду в Лос-Анжелес. В Польше все громче становился голос «Солидарности», а в Узбекистане полным ходом шло «Хлопковое дело». Короче говоря, стало очевидно, что советский режим уверенно вступил в фазу саморазрушения.
Мы освободились с разницей во времени около полугода, но встретиться дома, в Киеве, нам так и не удалось. Через двадцать дней после освобождения меня снова арестовали. Как «злостному валютчику» в этот раз мне дали шесть лет строгого режима, и я почти без задержки пересел с одних «галер» на другие.
До моего освобождения в 1990-ом из таёжной колонии в Красноярском крае, я ничего не знал о Серёже. А он тем временем продолжал давно начатое дело – разрушение советской коммунистической системы. И немало преуспел на этом поприще. Набока создал «Украинский культурологический клуб», из которого вышло множество будущих ярких политиков национально-патриотического толка. Он издавал газету «Голос відродження» – рупор Украинского Хельсинкского союза, вёл программы Украинской службы «Радио Свобода». Именно Сережа организовал первое негосударственное информагентство «Республика».
По тогдашним законам мне было запрещено после освобождения проживать в столице, и я потратил уйму времени и сил, чтобы уладить все вопросы и прописаться дома. Кто-то из общих знакомых рассказал Набоке, что видел меня в Киеве, дал мой телефон, и Серёжа, предварительно позвонив, пришёл ко мне домой на Подол. Мы встретились так, будто и не расставались в течение этих шести лет. Он немного поправился, отпустил усы и, дымя трубкой, по-прежнему всё время шутил и смеялся.
– Ну і що далі, старичок, які плани? – спросил он меня.
– Буду сваливать, уже собираю документы, – ответил я.
Все годы моего второго срока я не мог простить себе, что освободившись в первый раз, не уехал тотчас из страны и потому снова был посажен. В итоге десять лучших лет жизни, от двадцати до тридцати, прошли по тюрьмам, этапам и лагерям. Слегка успокаивало то, что все эти десять лет я непрерывно читал, самообразовывался, узнавал людей, приобретал бесценный жизненный опыт, дававший возможность проверять усвоенные книжные истины на деле. В последние два года перед освобождением мне даже разрешили, вняв поданному мною прошению, заочно продолжить прерванное образование, и я день и ночь писал контрольные работы и письма педагогам. Наметившиеся в стране преобразования особой веры и оптимизма во мне не вызывали. К тому времени я уже неплохо знал историю и философию и хорошо понимал, что старый режим попросту мимикрирует, изменяясь внешне, но при этом оставаясь верным своей сути. Неверие в кардинальные изменения в стране, осознание того, что жизнь стремительно проходит, побудили меня буквально сразу же после освобождения начать подготовку документов на ПМЖ в Израиль.
– Це, певно, твоя справа, і ти, старичок, довго на це чекав, але мені здається, що сьогодні – це помилка, – отвечал на мои доводы Серёжа. – Ми стоїмо на порозі подій, після яких будь-яка еміграція вже не буде мати сенсу.
Он вообще всегда был оптимистом и так сильно любил Украину, что порой готов был принимать желаемое за действительное. Офис УНИАР в то время располагался в старом довоенном здании на Подоле, в пяти минутах ходьбы от моего дома. Серёжа часто захаживал ко мне после работы, и мы гуляли по аллее Нижнего Вала до Рыбальского моста и обратно с появившимся у меня тогда далматинцем по кличке Грэг. Мы редко вспоминали нашу жизнь в зоне. Говорили об истории, я тогда уже глубоко увлёкся историческими судьбами еврейского народа, о музыке и кино, но в основном – о жизни и, конечно, о политике. Набока в то время издавал журнал о политических партиях и движениях в Украине, всегда имел с собой несколько экземпляров, иногда зачитывал мне что-то оттуда, и каждый раз, уходя, забывал эти журналы у меня.
В том же году я женился, и документы на выезд следовало переделать с учётом изменившегося семейного положения. А покуда мы решили с женой съездить в Израиль в гости, изучить обстановку, понять страну, увидеть себя в ней. Я попросил родственников прислать мне гостевой вызов и те очень оперативно отреагировали. Словом, в начале следующего года в наших загранпаспортах стояли визы, и мы подбирали удобное время для поездки.
В 1991 году не стало моей мамы. В том же году Украина обрела государственный суверенитет. Хотя продуктовые магазины по-прежнему оставались пустыми, а интеллигенты выживали торговлей на вещевых рынках, казалось, наконец-то мы поворачиваем на путь, ведущий к цивилизованному демократическому миру, выкарабкиваемся из «совка», избавляясь от чуждой нам, европейцам, «азиатчины». Это было романтическое время, время пламенных речей и возвышенных устремлений. Помню, как-то в те дни мы с Серёжей на радостях даже выпили, чего раньше не делали, хотя он и был любителем. По всему чувствовалось, что вот-вот – и всё вокруг коренным образом изменится. Разве можно навсегда уезжать, когда всё только начинается?
Статью, по которой я отсидел почти десять лет, в том же году декриминализировали; валютные операции сделались обычным делом, а я стал считаться несудимым. Через год, вернувшись из поездки в Израиль, я с партнёрами начал собственное дело, вся жизнь закрутилась вокруг него. Мысли об отъезде если и возникали, то только в связи с необходимостью отдохнуть на каком-нибудь заморском курорте. Наши с Серёжей разговоры того периода были примерно такими:
– Да, географически мы европейцы, но наши души все еще пасутся на азиатских пастбищах. Смотри, все признаки налицо: люди делятся на «наших» и «ваших»; мы больше почитаем силу, чем ум; прогибаемся перед тем, кто выше стоит на социальной лестнице; у нас «кровное» важнее объективного. Именно поэтому мы скорее возьмём к себе на работу бухгалтером собственную тёщу, чем «чужого» профессионала. Византия – наш извечный бич, – говорил я Набоке, озвучивая свои сомнения и скепсис.
– Це все не константа. Потрібно показати та розповісти нам про те, що є більші, кращі та спокійніші пасовища, де трава смачніша та екологічніша, – отвечал он.
Шли годы, а моя страна топталась на распутье, как витязь, у которого конь издох, так и не выбрав, в какую сторону двинуться. Конечно, прошла ваучерная приватизация. У циничных убийц и близких родственников президентов стали формироваться огромные состояния. Улицы наводнили иномарки, и начали расти, как грибы, частные дома в пригородах. Но по сути мы оставались колонизированной территорией, периферией «русского мира». Наша, избранная свободным волеизъявлением власть, была всецело в подчинении у имперского центра и никогда не имела чувства исторической ответственности и истинного патриотизма. Парламент превратился в инвестиционный фонд: уплатил за место в Раде два миллиона – за четыре года нажил десять. Экономика не модернизировалась, вся индустрия была ещё большевиками построена и могла быть конкурентоспособной только в странах-обломках советской империи. И плюс – тотальная коррупция, как единственный эффективный механизм функционирования государства.
– Посмотри статистику! – взывал я как-то к Серёже. – Посмотри, каким был Израиль в 58-ом году, через десять лет после своего возникновения, и какими через десять лет стали мы! Помнишь, тогда, в восьмидесятые, мы точно знали, что страна, в которой бармены и мясники живут намного лучше, чем учителя и врачи – долго не протянет. Ну, и где эти врачи с учителями сегодня?
– Архітектура, старичьок, – жорстоке мистецтво. Щоб збудувати щось нове, потрібно зруйнувати старе. І це потребує часу, – оппонировал мне Набока.
Я говорил ему о том, что для строительства нужен план, идея, которую мы до сих пор так и не сформулировали, о том, что всё ходим по кругу, наивно полагая, что движемся вперёд. Но Серёжа был непоколебим в своей вере и готов был вечно бороться и ждать победы.
Время летело. Мы периодически созванивались, но виделись всё реже. Серёжа стал вести на одном из каналов свою программу, какое-то политическое ток-шоу, и чаще я наблюдал его вечерами по телевизору. Хотя, честно говоря, ни разу не досмотрел до конца, уж больно поздно начиналась передача.
Беда случилась зимой 2003 года. За несколько дней до страшного известия мы говорили по телефону. Так, ни о чём: как дела, что нового? И вдруг сообщение по радио и в теле-новостях: «Сергей Набока скоропостижно скончался от сердечного приступа в помещении Винницкой исправительно-трудовой колонии, где находился в командировке от «Радио Свобода».
У меня всё внутри опустилось. В качестве первой реакции в голове застучала мысль об убийстве. Невозможно было поверить в версию тривиального сердечного приступа, и где – на зоне! Причём дальше он планировал ехать прямиком в Райковцы, на 78-ю, где после отсидки ни разу не был; с той же задачей – правозащитная деятельность. Прощание с Серёжей было устроено почему-то в зале Дома учителя. Я смотрел на его лицо без очков из угла заполненного зала и чувствовал, что уходит не просто мой друг, уходит не только часть меня и моей жизни – уходит та страна, та «омріяна» Украина, о которой я всегда мечтал. Умная и культурная, гордая и ироничная, говорящая на украинском и поющая песни «Битлз», добрая и непоколебимая в своих принципах… Словом, похожая на Серёжу Набоку.
Игорь Гольфман


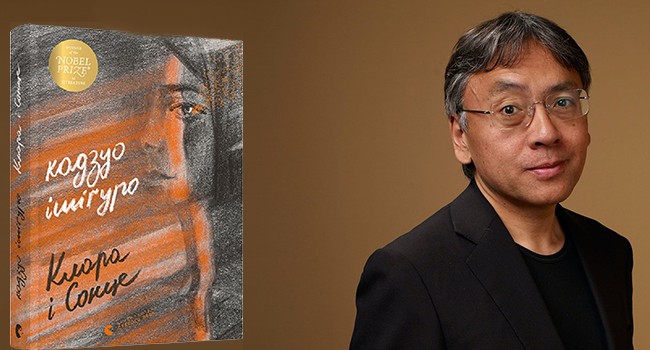
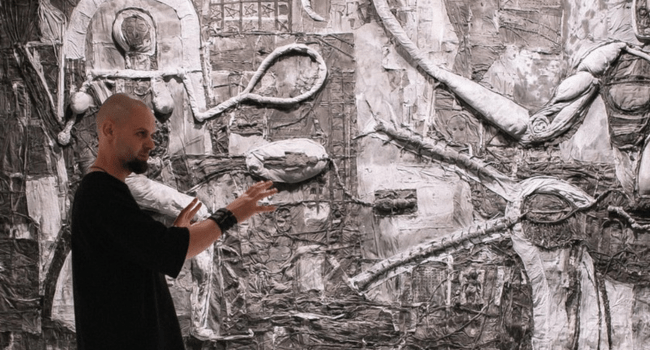

3 коментарі
Дякую Вам пане Ігоре!
Яка чудова оповідь про ті часи,та чудову людину!
Нехай щастить Вам!
І Вам дякую.
Прекрасна мова оповідання, дуже душевні спогади!
Шира дяка Вам, пане Ігоре!
Бажаю Вам всього найкращого!