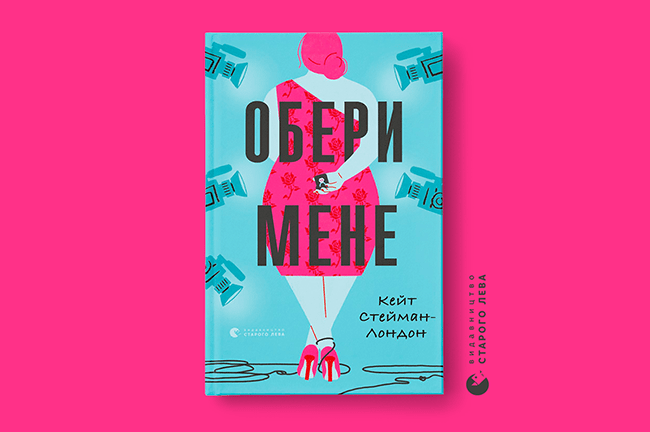Книгу «Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі» Владимира Каминера перевели Оксана Щур и Сергей Жадан. На Книжном Арсенале в этом году книжку вместе с автором представляли музыкант Юрий Гуржи и писатель Сергей Жадан.
«Втрачене літо — это не карантинная книга, настаивает Каминер. И он прав. Это книга о хрупкости бытия, о растерянности и том, что все мы хотим выдумать себя заново, но нам это не удастся. При этом это очень ироничная книга. Это юмор, спасающий от обморока и растерянности.
Это интервью взято за 12 минут. Сначала их было 30. Потом оказалось: пробки, время стало героем интервью. Когда я собиралась задать первый вопрос, писателя Владимира Каминера вышел приветствовать глава Гете-Института, — восклицания, улыбки, потом они обсудили футбол, и то, что Владимир собирается «написать об этом». С «этого» я и начла, поняв, что задать все свои вопросы не успею.
Вы собираетесь писать книжку про футбол?
— Нет. Это будет журналистская публикация, она, конечно, будет не только о футболе. Я как раз хотел посмотреть, сколько нового мира — пандемии и политики будет в этом. Это же первый выход людей на улицу, первая попытка социальных контактов. Это так трогательно и смешно. Везде пишут: «В 10 европейских и одном азиатском городе проходит Чемпионат мира». А жители азиатского города вообще не считают себя азиатским городом.
Ну, конечно. О чем вы больше любите говорить и писать — о прошлом или настоящем?
— А у нас сейчас интервью?
Надеюсь.
— Ааааа. Тогда нам надо еще раз познакомиться.
Меня зовут Вика Федорина.
— Вика, здравствуйте! Я — Владимир.
Очень приятно, рада вас видеть, замечательно выглядите!
— Спасибо.
Итак, прошлое или настоящее? Или вас прошлое вообще не интересует?
— Как может не интересовать прошлое? Прошлое – это единственное, о чем мы можем говорить, потому что будущего нет, а настоящее – чрезвычайно туманно. Наоборот! Чем больше проходит времени, тем больше радости мне доставляет писать, например, о Советском Союзе, потому что это закрытая история, у нее есть начало и конец, ее можно теперь исследовать, анализировать. Да и вообще, писать о ней – означает строить ее заново, потому что только написанное и является доказательством ее существования. Я думаю, что люди, описывающие прошлое, это прошлое и создают, потому что лишь описанное прошлое имеет место в сознании и памяти людей.
Потому что это еще их рефлексия.
— Вопрос только в том, как его описать. Условия существования этого прошлого еще и в том, насколько увлекательно удается автору написать о нем. Надо написать о прошлом так, чтобы следующему поколению было интересно знакомиться с ним, с этими давними историями. Поэтому я сказал себе: как я напишу, таким и будет этот Советский Союз. Но мы носим это в себе, это часть нашей социализации. Это то же самое, что и с родителями. В какие креативные проекты мы переливаем эту ношу памяти – личное дело каждого.
Как вы стали писать? Вы же изучали драматургию.
— Драматургия — это случайный эпизод. Я с детства очень любил рассказывать истории. Для меня разговор на кухне – самая большая радость в жизни. В детском саду я выдумал себе такого дядю, который якобы работал киномехаником в закрытом кинотеатре…И показывал фильмы только для какой-то особенной, партийной специально допущенной публики, но меня — пускал. Я в саду пересказывал эти фильмы.
И фильмы вы сочиняли тоже?
— Фильмы я сочинял, да. Пересказывал фильмы своим коллегам по детскому саду – за это они съедали мою остывшую манную кашу с застывшей пленочкой, которой терпеть не мог. У нас был такой deal.
Win-win.
— Потом уже, взрослыми людьми, многие из них говорили мне, что они посмотрели в реальности эти фильмы (которых на самом деле не было) и сказали, что в моем пересказе все было более интересно.
В школе меня всегда прикалывала русская литература, особенно революционная поэзия Маяковского. Я принимал участие в конкурсе чтецов со стихотворением Маяковского, которое я на самом деле написал я сам. Мне казалось, что Маяковский – это на самом деле очень просто. Плюс тогда мне очень хотелось всех громко со сцены обругать, но я не знал, как это сделать. У меня был такой план: я напишу стихотворение в духе «Нате» (читает: «Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош»). Только своими словами… Скажу, что «это из более полного сочинения Маяковского, набросок, ранее не опубликованное стихотворение». Выступлю с этим стихотворением и скажу этим людям прямо в глаза все, что я они х думаю. Этот план, вы не поверите, Вика, получился.
Помните это стихотворение?
— (Начинает вспоминать, сам себя обрывает) Ну, было грубо. Что-то на грани дурного вкуса. Но, с другой стороны, это же был Маяковский. Или, по крайней мере, моя попытка глазами Маяковского посмотреть на мою тогдашнюю школьную ситуацию. Эти люди… трусливые, морально неопрятные, вассалы, служащие непонятному господину. Вот об этом я тогда и написал короткое, но очень звучное стихотворение. Сегодня наверное я бы сказал, это был рэп.
Я выиграл этот конкурс (у меня до сих пор есть грамота!), и меня отправили на городскую олимпиаду. На городской олимпиаде я решил идти до конца – написать какую-нибудь поэму (типа «Облака в штанах»), но, по своей природной лености и отсутствии поэтического дара, этого не сделал. И выступил с тем же самым стихотворением. Я тогда подумал: лучший враг хорошего… Но в жюри сидели не такие лохи, как у нас в школе 701, какие-то профессора, специалисты по Маяковскому. Они мне сказали: «Молодой человек, можете заканчивать ваше выступление, такого говна Маяковский никогда не писал и написать не мог. До свиданья».
Было обидно.
А вы были пионером-комсомольцем?
— Я был пионером.
А в комсомол пропустили?
— С комсомолом что-то не очень срослось: сначала забеременела комсомольская богиня, а потом прием был закончен. Потом они уже поняли, кем я являюсь, и вопрос с комсомолом отпал.
А потом я попал в армию, где меня пытались затащить в комсомол, но оказалось, что я не являюсь его членом. В армии я, — опять рассказываю историю, — я был гадальщиком, гадал солдатам по руке. Гадать солдату по руке – это просто.
Вы же сочиняли?
— Что вы имеете в виду? Да, я не гадалка, но гадать солдатам по руке – просто. Гадать солдатам можно даже и не по руке, а на плацу и всем разом, но я этого не делал, потому что каждый человек рассчитывает на свою собственную судьбу, на какую-то свою исключительную биографию. Со мной служили ребята из сельской местности. Сильно больших вариантов для создания творческой биографии не существовало. Практически каждый солдат имел какую-то психическую травму родом из детства: украденный мопед, несчастную любовь… В Советском Союзе 18-летнему человеку о его прошлом было не сложно рассказать. А если человек слышал свое прошлое, то у него возникало, естественно, доверие к гадальщику, и тогда уже можно было рассказать будущее. И вот тут я отрывался.
Потом я приехал в Германию… Нет, потом я работал в театре. Я искал какое-то интересное место, а в Советском Союзе было немного интересных мест. Советский Союз был большой, но довольно пустой. Я, будучи хиппи, много ездил по разным братским республикам. В какой-то момент мы заметили, что профиль города вырисовывается уже на вокзале. То есть, наблюдая за населением вокзала, за теми вагонами, которые стоят на запасных путях, можно понять, что происходит в городе.
Интересные места вс же были. В Москве такими местами были театры. Театр был какой-то нишей, глотком свежего воздуха; какие еще книге можно подобрать к описанию театра? Именно там, не на сцене, конечно — в курилках, столовых, на репетиционных площадках собирались наиболее увлекательные, интересные мужчины и красивые женщины. За кулисами проходили самые интересные разговоры, ставились интересные спектакли. Практически в каждом крутом театре были спектакли вне афиши.
А вы успели в театре поработать?
— Я во многих театрах работал. Мой первый театр – «Театр сатиры». Я не был драматургом, я работал звукотехником. В Театре сатиры я открыл Лешу Левинского. Я даже не знал, что вообще такое существует. Этот человек с двойным образованием: у него был ГИТИС и цирковое училище. Он пытался оживить Театр Мейерхольда, его биомеханику. Мне было 17 лет, но я был ребенком. «В ожидании Годо» в исполнении Левинского» – всего меня перевернуло. Как говорил Ленин о Горьком: «Перека…». Ну, в общем, вы понимаете. Я выучил весь этот текст наизусть. Это безделушка, простенькая пьеска, но она преследует меня всю жизнь. Современники ставили «Случай в зоопарке» Олби. В Маяковке гончаровские студенты тогда делали невероятного Гоголя, где Хлестакова играла девушка. Не знаю, что стало с этим курсом. Вот так шло всё дальше и дальше.
Я попал в самое правильное место, я увидел квинтесенцию театральной жизни. Это были творческие театральные мастерские «Союза театральных деятелей Российской Федерации». Я получил красный аусвайс, удостоверение. Мой шеф редко появлялся на работе. Там были все мастерские. Там была Мастерская Мирзоева, Мастерская Клименко; Макеев ставил там с табаковскими студентами, с выпускным курсом тогда совсем молодыми Машковым и… Как зовут этого самого известного русского актера? В «Преступлении и наказании» он говорил: «Я убийца».
Миронов.
— Вы что, видели этот спектакль?
Нет, не видела (но сейчас услышала). У Миронова теперь свой театр, а Мирзоев остался нормальным, не так давно поставил отличный сериал.
— По Глуховскому?
Да.
— А тогда Пономарев ставил «Елизавету Бам». Был гигантский хармсовский театр.
И все это в какой-то момент закончилось. Я ушел в армию. Я делал в театре… как бы мне рассказать, что это было… Мы были частью молодежной культуры, мы, диссиденты и панки, устраивали в «Театре на Красной Пресне», во дворе, бездник Джона Леннона. До этого мы привозили на концерты из Ленинградского рок-клуба интересных исполнителей. Все было прекрасно — мы зарабатывали деньги и славу. И все было хорошо.
Потом был День рождения Ленина: люди стригли себе волосы, варили грампластинки в большом тазу, играла музыка – никакого художественного значения в этом мероприятии не было.
А пластинки варили чтобы что?
— И лили их на снег. Это символизировало смену вех, какой-то культурной парадигмы. У советской молодежи появился какой-то новый нарратив, в том числе и политический, который они приняли за свой. Это повлекло за собой репрессии со стороны отдела, надзирающего за культурой, отвечающего за безопасность режима по отношению к нам. Хотя я считаю, что мы не заслужили этого. В результате мы все были поставлены перед выбором. Выбирая между тюрьмой и армией, я выбрал армию, и очень быстро в нее ушел. Хотя я совершенно не собирался этого делать. И стал в ней гадальщиком.
После армии я вернулся в «Творческие мастерские», но никого в них не нашел: все двери были открыты, было пусто, только в бухгалтерии еще сидели какие-то люди. Везде летали какие-то бумажки, кто-то провожал Мирзоева в Канаду, все остальные куда-то уехали.
И вы тоже решили уехать?
— В Австрию. Просто никого не осталось. Кроме того, все мои музыкальные знакомые свалили в Данию, датское молодежное движение Next Stop приехало в Москву и забрало людей с собой. Тогда я понял, что надо ехать, что эта глава заканчивается и открывается какая-то новая, чудесная глава.
Она открылась?
— Еще как!

Вы сразу стали писать или организовывать концерты? Что было сначала в Германии?
— Мы устроились на работу в контору по сбору старых вещей.
Старьевщик, серьезно?
— Там была забавная ситуация. Я чувствовал себя как лягушка из игры «Перестройка»: только я уехал из Советского Союза, как этот Советский Союз тут же рухнул; приехал в ГДР – через пару месяцев не стало ГДР. Мои друзья говорили мне: «Владимир, у тебя счастливая рука. Поехали дальше».
— Хороним диктатуры!
— Мы сейчас разберемся со всеми этими невнятными политическими образованиями. Мир без границ, сome on!
Но я застрял. Получилось очень смешно, смотри…те — или перейдем на «ты»? — переходим — Смотри, Вик: ГДР признала мой диплом. То есть, я встал на учет на бирже труда как театральный работник очень высокой категории, не зная при этом толком языка, и сразу стал получать предложения от театров. Как раз в это время государство из последних сил поддерживало театральную деятельность, потому что думало: пусть они лучше кричат и бегают по сцене, чем по улице с зажженными покрышками. Это очень правильно, ведь искусство – это (мучительно ищет слово, и в последний момент заменяет катализатор на туалет) туалет, в который спускается пассионарная энергия населения. Я сказал: «Подождите, мне надо для начала как-то выучить язык».
И пошел в университет. Везде на сломе государственности случается вулкан — неожиданно вырывается тот человеческий креатив, которого так не хватает в нашей обыденной государственной жизни. В берлинском университете имени Гумбольдта (который сейчас заканчивает моя дочь) очень крутая школа для изучения иностранных языков, и немецкого как иностранного, потому что каждый год в ГДР приезжали иностранные студенты из стран социалистического лагеря, из Вьетнама и Африки. Потом они перестали приезжать, поскольку ГДР накрылось, а педагоги остались. И педагоги, которые там остались, придумали, что возьмут учить евреев из Советского Союза в качестве новых африканцев, новых вьетнамцев. Таким образом, евреи спасли fremdsprache аудиторию университета Гумбольдта.
Там было много украинцев. Я записался на якобы изучение германистики, и как, будущий студент германистики мог учиться в языковой школе — пять, а то и шесть раз в неделю по 8 часов, с домашними заданиями. Это было очень жестко. Украинцы, люди с хорошей памятью и певучим сознанием, чрезвычайно быстро осваивали этот язык. Они вообще очень много разговаривали по сравнению с нами, людьми с севера. Сначала они разговаривали по-русски, потом – по-украински. А потом так же быстро стали разговаривать по-немецки, обо всем, нас — меня и моего друга это смутило. Мы даже не сдали последнего экзамена. Но через три месяца я понял, что могу разговаривать по-немецки и все понимаю, и пошел работать в театр.
Долго работал в театре, я ничего не писал. Я ставил Достоевского. Достоевский преследовал меня всю жизнь. А кого еще? Кто написал больше театральных пьес, чем Достоевский?
За Владимиром пришли, и я задаю вопрос из списка заготовленных: Ты ведь понимаешь, насколько крутой украинский перевод твоей книги?
— Мне кажется, да, хотя я не знаю украинского. В том, что я слышал, есть… панк.
Он умный, как математика.
— Да? Отлично. Основная тема моей книги — не карантин – люди в обмороке, не понимающие, что с ними происходит. Я писал книгу о том, как люди пытаются найти друг друга, создавая в интернетенесколько профилей и забывая о том, кто они. Кто мы? Где мы? И что происходит.
Когда тебя сравнивают со Жванецким — как ты к этому относишься?
— Мне это льстит. Но я — совсем про другое.
А с Вуди Алленом? — спрашивает Оксана Щур, она пришла за Владимиром.
— Вуди Аллен – это про что? Про то, как выжить маленькому человеку. На самом деле, если убрать библейскую тематику, он похож на Чарли Чаплина.
И на Каминера.
— В основе Вуди Аллена лежит гуманная традиция – чистое Просвещение: человек должен выжить, он же хороший. Ему надо просто в правильное место попасть, и тогда он сможет предъявить свои достоинства. А я не человек Просвещения. Я считаю, что выживать не обязательно – вопрос так не стоит.
Я не про добро, а Вуди Аллен – про добро.
Жванецкий. Он том, как перенести тяжести жизни, о невыносимой легкости бытия. То есть Жванецкий – это русский Кундера, что «шуткой и юмором все можно принять. И да, мы такие».
А про что Владимир Каминер?
— Ненормально.
И не надо выживать, и ненормально. А как тогда?
— У нас не получается интервью, Вика, мы перескакиваем с темы на тему. Начали с биографии, остановились на самом интересном моменте, а теперь вы хотите узнать от меня… Мне вообще очень нравится фигурировать в Киеве в качестве профета. Окей. А сейчас вы обе хотите узнать от меня, как правильно жить?
Нет, не хотим.
— Я не отказываюсь отвечать ни на какие вопросы. Если вы хотите узнать об этом, спрашивайте, я готов ответить.
Погадать?
— Гадать долго. Гадать сложнее, чем объяснять, как правильно жить, потому что в гадании возможны варианты, а «правильно жить» – это без вариантов.
Почему? Это же просто.
— Мне не нравится «просто». Мне кажется, что, когда люди говорят: «Смотрите, это просто», – в этом уже содержится какая-то ошибка. На самом деле нет ничего простого. Все очень амбивалентно. Где просто? Всё сложно. Когда кажется – это для меня очень четкая метка — когда кажется, что что-то просто – значит ты чего-то не понимаешь.
Каждый раз, когда я с сыном играл в шахматы, я думал об одном и том же: ребенок, ха-ха-ха – и каждый раз попадался. Но когда я перестал думать о нем как о ребенке – я стал выигрывать.
Текст: Вика Федорина