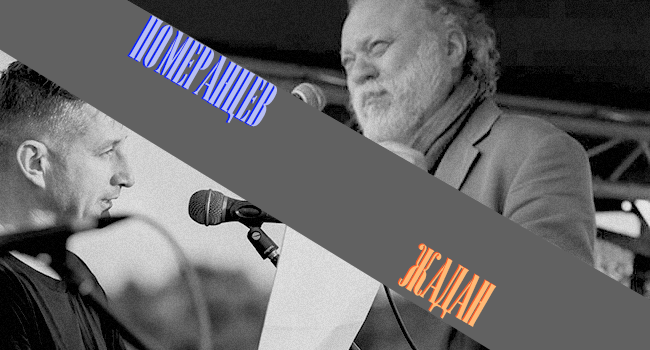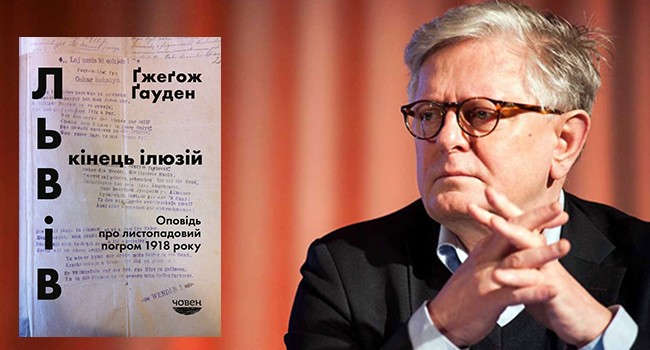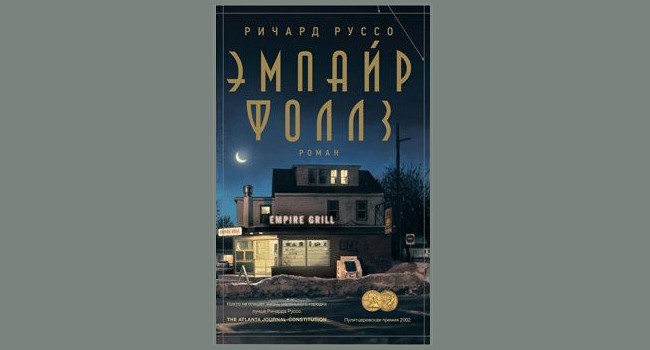Диалог (двойное интервью) поэтов Игоря Померанцева и Сергея Жадана на литературном украинско-шведском фестивале Meridian Poltava.
Сергій Жадан відповідає на питання Kyiv Daily
Назвіть нові цікаві вам імена сучасної української поезії.
— Наскільки нові? От щоб — просто нове? Олена Герасим’юк, Таня Малігон, Іра Цілик, Катя Калитко. Але вони умовно молоді, тому що у всіх них вже є книги.
Зараз я читаю рукопис нової книги Ані Малігон, це дуже сильно. В Олени Герасим’юк має зараз вийти нова книжка, я щось читав, надзвичайно цікаво.
Що можете назвати своєю поетичною школою?
— 80-ті роки: Герасим’юк, Римарук, Білоцерківець, Забужко, Андрухович, Неборак, Малкович, Ірванець, Федюк — їхнє покоління.
Це були перші поетичні книги, які я купував самостійно, мені було тоді 16, 17, 18, 19 років, я йшов у книжкові, купував ці новинки. Я розумів, наскільки це — щасливий випадок. Тому що зараз, минуло 30 років, дивишся на це з перспективи, розумієш: це те ж саме, що прийти в книгарню в 20-х і купити там свіжу книжку Павла Тичини, або Євгена Плужника, або Володимира Свідзинського. Насправді — це дуже потужне покоління, ті книги, які виходили в кінці 80-х — початку 90-х, стали маркерами українській поезії.

Ви ліричний поет або громадянський?
— Думаю, що я скоріше міфологічний поет. Пафосно кажучи, я намагаюся зрозуміти міфосистему східної України. Вона мені дуже цікава, я в ній знаходжуся. Комусь це не подобається, хтось вважає це самоповторами, а для мене це мій світ, в якому мені добре, в якому я себе самодостатньо відчуваю. Це те, що я знаю найкраще.
Поетові важлива національна ідентичність?
— Не обов’язково, мені здається. Це може бути дуже цікаво, а може бути зайво і банально.
З ким розмовляє поет, пишучи вірші?
— Не знаю.
З собою? Для вас діалог — важливий?
— Так, безперечно. Але не тільки з собою: так чи інакше, коли ти пишеш вірш, ти якось працюєш з потоками мови, ти так чи інакше заходиш на якусь територію, входиш у темряву, і так чи інакше, з’являється перекличка. От я сюди їхав, писав вірш, і в цей час знаходив якраз якісь відбитки, відблиски: це ось звідти, а це — звідти… Це постійно якісь голоси, які звучать, і які ти або пропускаєш, або блокуєш. Просто якщо це буде якесь конкретне значення: що там, наприклад, «голос Бога», чи голос, скажімо, «духу поезії», це, напевно, буде звучати доволі смішно. Але мені здається, загалом, людина, яка працює з мовою, вона має чути ці голоси.
На що сьогодні живе поет?
— На поезію. Для мене ж поезія — це не просто писання віршів в стовпчик, це власне те, чим я займаюся, з цього я живу. Тобто ви про фінансовий бік?
Так. Ігор працює на радіо, у нього є робота.
— В мене теж є робота, в мене за останні п’ять днів було п’ять виступів в трьох країнах, я доволі непогано заробляю. Вчора грали на дачі Януковича.
Там був фестиваль «Межигір’я фест», який роблять журналісти. Досить цікавий фестиваль, і ми там грали.
Про що б ви хотіли запитати Ігоря Померанцева?
— Ми з Ігорем бачилися рівно місяць тому в Празі, і в нас була дуже довга розмова, і в принципі, якихось нових питань в мене не виникає…. А в нього яке питання?
Вопрос Игоря Померанцева — Сергею Жадану:
Мы живем в такое время, которое называется гибридным. Гибридная война подразумевает использование и конвенционального оружия, и информационного, последнего в гораздо большей степени, чем в прошлые эпохи. Понятие Zeitgeist («дух времени») сильно заезжено, тем не менее это явление существует. Мы про разные времена знаем не столько благодаря историкам, сколько благодаря художественной литературе, живописи, музыке. Мы живем во время гибридной войны и в гибридное время. Гибрид — сравнительно новое слово в русском языке, в XVIII веке вместо слова гибрид употребляли слово «ублюдок». Понятие гибрид использовалось прежде всего в ботанике и в зоологии. Например, гибридные виды животных — мул, лошак. Писатель проживает время словами. И я думаю, что как раз Сергей Жадан был первым сильным ответом на гибридную войну и гибридную эпоху. Сергей работает во всех жанрах, включая музыку и сцену. Он — кинодраматург, поэт, прозаик, эссеист, интервьюер. Мне любопытно, отдает ли он себе сам отчет в том, что он «ублюдок»?

Ответ Сергея Жадана — Игорю Помераннцеву:
— Думаю, що Ігор помиляється, думаю, що я не різножанровий. Я якраз одножанровий і доволі тенденційно жанровий поет, і це багато кому не подобається. Я займаюся виключно чимось одним, і це якраз і є — певна міфологізація реальності, незалежно від того, чи це скажімо статті про президента Зеленського для газет, чи це, скажімо, написання лібрето для якихось театральних проектів, все це складові одного конструктора «лего».
Знаю, що я хочу запитати в Ігоря: «Як почуває себе людина, яка з вікна свого офісу бачить могилу Кафки?
Ответ Игоря Померанцева — Сергею Жадану:
— Да, я работаю на радио, с террасы которого можно увидеть могилу Кафки на Новом еврейском кладбище. Людей на кладбище почти нет, похороны случаются крайне редко: евреев в Праге в обрез. Меня лично эта могила воодушевляет, я даже помню её номер: 21. Или 22. Два образа из книг Кафки прочно входят в состав моей пражской жизни. Йозеф К. в романе «Процесс» живёт в ожидании конца следствия, вынесения приговора и исполнении приговора. Что-то подобное происходит и в моей жизни. Время от времени меня увольняют, но никак недоуволят. Правда, я – жизнерадостный Йозеф К. Другой образ – это Грегор Замза. Я часто снюсь Праге, и в её липких душных снах я претерпеваю превращения. Я даже написал рассказ «Пражские сны», в котором меня зовут Игорь Замза. Я работаю на радио жуком: что-то скриплю, шуршу, дребезжу в микрофон. За это мне подняли зарплату и показывают заезжим сенаторам и конгрессменам. Подольше бы длились эти сны.
От меня вопрос (Сергею) — об уроке Полтавской битвы для шведов
— Минулого року вони цікаво розповідали, що тут навіть не питання осмислення війни, для них це по-своєму був шанс відмовитися від своєї імперськості. I це — щасливий шанс, ти просто відмовляєшся від дуже сумнівної переваги, від якої важко відмовитися. Вони перебудувалися, по-моєму, це добре.

Игорь Померанцев отвечает на вопросы Kyiv Daily
Новые имена и новые голоса в современной украинской поэзии в Прагу доносятся?
— В молодости я знал всех украинских и русских поэтов Советского Союза, это была естественная жадность, жадность к чтению, к пониманию себя и своих стихов через стихи других. Я знал стихи иркутских поэтов, одесских поэтов, малотиражных поэтов, какая-то была неиссякаемая жажда чтения. Я совершал открытия, и не все они «закрылись»: я до сих пор помню стихи Леонида Григорьяна из Ростова-на-Дону, строки о его любимой латыни:
И ливни размывают здания, и строят новое века,
Но не сдаётся рокотание загубленного языка.
Я прочёл их и тотчас вспомнил стихи молодого поэта Павла Тычины: «рокотання–риданния бандур».
Сейчас я живу в другом времени года: в зрелом возрасте ключевое слово – «селекция», снайперский выбор чужих писательских миров. Поэт — это не только хорошая строчка, или хорошее стихотворение, поэт – создатель своего мира. Возвращаясь к вашему вопросу об украинской поэзии. Я всегда читал украинскую поэзию, конечно, я знал украинских поэтов, так называемую Киевскую школу. В эмиграции я открыл гигантов украинской поэзии, Володимира Свидзинського, открыл Нью-йоркскую школу украинских поэтов: это поэты, выросшие в Америке и в Германии, я переводил Юрия Тарнавского с украинского на русский язык.
А теперь, знаете, жизнь немножко похожа на песочные часы, я вижу ограниченное количество песка в верхнем конусе моих песочных часов, и я слегка экономлю время и усилия. Если мне дарят книги, я читаю их, но у меня нет картины, ландшафта современной украинской поэзии, я лично знаком с очень хорошими украинскими поэтами, у меня дома есть полка с их книгами, но они не молоды.
А Сергей Жадан молодой поэт?
— Жадан был молодым поэтом, я помню его таким, к счастью, он стал поэтом зрелым — это ведь ненормально всю жизнь быть «молодым поэтом». На меня такое впечатление производил популярный поэт Евгений Евтушенко, он как вошел в литературу молодым поэтом, так им до смерти и остался. А Жадан…
Есть несколько Жаданов на полке в моей библотеке, он был и остается замечательным поэтом, и, более того, я вижу стилистические изменения в его поэзии. Война научила его избегать прилагательных: когда снайпер наводит на тебя прицел, у тебя нет времени на прилагательные, у тебя остаётся время только на существительные и глаголы.
Что можете назвать своей поэтической школой?
— Школа предполагает учебу. В детстве мы все ходим в школу. Почему? Не просто читать и писать учимся. Благодаря школе, любим мы ее или нет, мы строим картину мироздания: это география, история, место культуры, понимание времени, пространства. Точно так же и с поэзией. В Париже есть Палата мер и весов, в юности ты ищешь Палату поэзии. Надо же знать, какие в этой Палате сантиметры, миллиметры, граммы, гекзаметры, ямбы. Конечно, я был увлечен этой школой, я окончил её, и.… я не был двоечником, мне было все интересно, включая какие-то технические, профессиональные вещи: «А что такое «дольник», и кто придумал слово «дольник» (Брюсов, кстати)? И отличается он чем-то от «паузника», придуманного поэтом и математиком Сергеем Бобровым? Конечно, я учился в этой школе… Я не верю в спонтанность, не верю в открытую эмоциональность поэзии. Я верю в кропотливую, упорную, честную работу. Поэзия — это такая же работа, как и работа плотника. Вот плотник знает толк в двуручной пиле, в скобеле, в тесле. Он работает с древесиной, а ты работаешь с языком. Плотник понимает жизнь через древесину, понимает людей через древесину: вот эта мягкая, эта твердая, это граб, это сосна, они годятся для разной мебели или для разной кровли, для разных крестов. И точно также ты работаешь с языком: ты должен знать сорта своей «древесины», должен знать свой набор инструментов.
Вы лирический поэт или вы гражданский поэт, вам интересна политика, геополитика?
— Ну… существует такое понятие как гражданская лирика, одно не противоречит другому. В поисках определения поэзии литературоведы, составители словарей, поэты соревнуются веками. Почему? Есть словарное определение, оно самое не интересное. Чем занимаются словари? Они говорят слову: «замри», а задача поэта наоборот сказать слову «отомри»! Когда ты произносишь «отомри», оно приходит в движение, и ты не можешь его зафиксировать, потому что смысл поэзии – в «отомри». Так что поэты все время ищут определение… Это как с любовью, невозможно дать определение любви, кроме обыкновенного, словарного. Почему? Потому что любовь тонкая текучая материя, ее невозможно остановить, и с поэзией точно так же. Романтик Вордсворт, Озерная школа, говорит, что «это спонтанный поток эмоций». Пастернак пишет целое стихотворение о поэзии — «это -двух соловьев поединок», «это – ночь, леденящая лист». Я тоже ищу определение, для себя я когда-то определил поэзию так — «летучая мышь, на которую навели фонарик». Но это о своих стихах. Я вижу, как они ускользают, и как ты остаешься с хвостом ящерицы. Она от тебя убегает, и у нее будет новый хвост. Очень трудно, невозможно оперировать словарными определениями. Если я не ошибаюсь, филолог Михаил Леонович Гаспаров предложил называть поэзией все, что пишется в строчку, — чтобы уйти от субъективных определений. А я как раз думаю, что поэзия, лирика, требует субъективного определения, поскольку она сама по себе субъективна. И это очень хорошо, что существуют десятки определений поэзии, и прежде всего это определения, которые придумали поэты.
Важна ли поэту сегодня национальная идентичность?
— Поэт работает в языке. Раз мы говорим «французский язык», значит у языка есть национальность. У украинского языка вот такая национальность, своя пятая графа, он – украинец. Работая в языке, естественно, ты попадаешь в недра, в магму языка. Здесь и происходит самое интересное. Во-первых, поэзия подвижна, и она любит переклички — из разных языков, поэзия любит аукаться, это вид заимствования. Например, русский Золотой век — это заимствование прежде всего французской, английской, немецкой поэзии. Но как оно органично, как оно волшебно, с заимствованиями можно топорно работать, а можно виртуозно. Вот у Пушкина было Божественное прикосновение к чужому, он чужое делал своим. Хвала и слава ему, и нелепо обвинять его в плагиате, в подражании: мы судим по результату.
Но при этом язык какие-то вещи диктует поэзии. Например, в немецком языке очень жесткий порядок слов, в этом смысле русский гибче, я уже не говорю про английский. Так вот, когда поэт в поисках свободы работает с немецким стихом, его главная задача — это преодоление – любыми путями – обязательного порядка слов. Это своего рода поиск свободы в клетке. И в немецкой поэзии есть свои чемпионы, например, Рильке. Я думаю, что он как раз вырывался из этой клетки, и обретал свободу вопреки строгим регламентациям родного языка. В английском языке другая диалектика, она связана с эклектичностью английского языка, 40% лексики заимствовано из латыни, благодаря норманнам, по-нынешнему — французам, а 60%… Нет, меньше, потому что в английском много всяких заимствований, из хинди, из арабского, из языков бывших колоний. Плюс огромное количество собственно германских корней. Причем, я говорю про 40% латинских корней, и это не простая арифметика, латинскими словами обозначены почти все абстрактные понятия. То есть, абстрактное мышление пришло через французский язык из латыни. А все почвенное, крепкое, предметное, это — германские корни.
И вот на этом языковом стыке работают английские поэты, они выбирают. У них в стихах противоборство корней — германских и латинских. В этом противоборстве рождается чудо английской поэзии. Есть поэты, которые нашли гениальную гармонию в этой эклектике, это елизаветинцы, прежде всего Шекспир и Джон Донн. Позже, скажем, Мильтон — это уже крен в латинские корни; романтики —тоже латинские корни, но при этом интерес к фольклору. Новые елизаветинцы — это модернисты начала ХХ века, работавшие с английским языком. И, кстати, Т.С. Элиот, не только поэт, но и автор великолепной эссеистики, которая легла в основу современного академического литературоведения в Англии, то есть, он поэт-интеллектуал. У него есть теоретические статьи о переводах, очень серьезные рассуждения на тему школ переводов, и это напрямую связано с самой природой английского языка. У англичан было свое определение переводов с иностранных языков –domestication, «одомашнивание» языка. В первом значении – domestication – одомашнивание животных, а уже во втором чужих языков.
Что касается языков, которые у нас под рукой, то у каждого свой нерв. Нерв русской поэзии, я думаю, сформулировал Мандельштам, он назвал произведения мировой литературы, написанные без разрешения, «ворованным воздухом», а «разрешённые» – «мразью». Признаюсь, для меня в «ворованном воздухе» есть своя криминальная сладость. С украинской поэзией, по-моему, еще глубже: она взяла на себя бремя спасения языка в условиях, когда этот язык гнобили, ломали ему руки и ноги, затыкали рот. И украинская поэзия выполнила свою миссию: украинский язык остался в живых.
С кем разговаривает поэт?
— Это как с хорошей музыкой. Вот сидит пианист, играет, и музыка — это его разговор, так безумец разговаривает с самим собой. Но этот разговор, пусть и безумца с самим собой, этот разговор необходим, — иначе музыка или слова будут мертвы. У меня есть книга, которая называется «Почему стрекозы?». Такие вопросы задают сумасшедшие: «Почему, почему?». И поэт сам себе задает подобные вопросы. Процесс сочинения стихов — это разговор с самим собой.
Можно строить стихи на гекзаметре. Можно строить стихотворение на рифме, это длится уже 14 с лишним столетий. Чтоб она пропала. Ну… это такой строительный материал — рифма. Римляне, кстати, знали, что такое рифма, но употребляли её только для стишат, для каких-то куплетов, это был низкий жанр. Но, видите, как честно поработала рифма на европейскую поэзию. Но и она устала. Верлибр сам по себе не плох и не хорош, но все-таки он предлагает какие-то другие свободы, при этом в верлибре тоже должна быть мотивация, он на чем-то должен держаться. Я думаю, что верлибр держится на голосе поэта. Если мы слышим в верлибре голос поэта, значит в стихах есть структура. Самое бессмысленное — это стихи, лишенные структурной мотивации, их не спасет ни верлибр, ни силлабо-тоника, ни средиземноморская волна длиной в гекзаметр. Структуре противостоит беспорядок, даже не хаос — беспорядок. Поэтому талант поэта – это ласточкины слюни.
На что сегодня живут поэты?
— Кто как. В Советском Союзе было больше девяти тысяч членов Союза писателей, из них около трети — поэты, но из них мы помним дюжину. Советские поэты жили благодаря тому, что они были членами Союза писателей. Если ты член союза писателей, то каждые несколько лет тебя обязаны издавать, обязаны издать твою книгу к юбилею, и так далее. Уже больше 30 лет я британский подданный, я не знаю ни одного английского поэта, который жил бы на гонорары, и никому в голову не приходит бурчать и жаловаться. Это большая удача, когда поэты работают в университетах, или в медиа. Я работаю на радио, и для меня это естественно, я не понимаю жалоб и стенаний моих ровесников, по поводу того, что им мало платят за стихи. Если тебе выпал поэтический дар, это уже счастье… ну, а на что жить… Некоторые поэты живут за счет зарплат жен, но это как раз люди из восточного блока, они полагают, что их дар — это не подарок судьбы, а национальное достояние.
Я сорок лет в эфире, каждый день работаю, пять дней в неделю, я — рабочая лошадь эфира, бескрылый Пегас. Благодаря этой работе я независим. Другое дело, что работа может как давать, так и съедать твою независимость. Но тут уже все зависит от собственных усилий.
Знаете, есть такая разновидность литературы — «проза поэта». Я сорок лет работаю на радио и думаю, что я создал «радио поэта». Это персонажное радио, оно ближе не к лирической поэзии – я как раз люблю быть в акустической тени — это ближе к мастерам сказа, вроде Лескова, Зощенко, Стефаника, это мои радио-учителя.
Текст: Вика Федорина